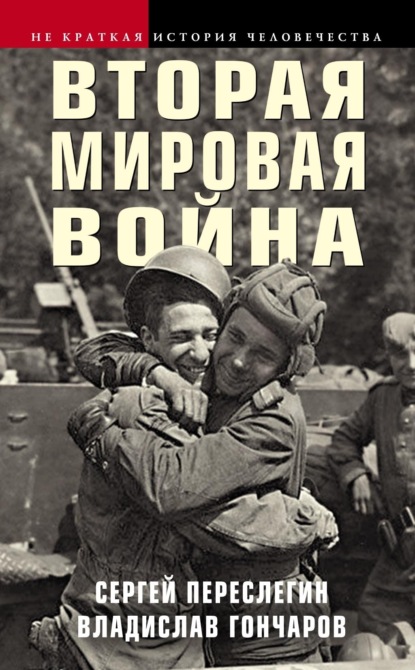
Полная версия:
Вторая мировая война
Наконец, нельзя забывать и ненависть англо-французских элит к большевизму, о котором не уставала говорить советская пропаганда. Другое дело, что на практике эта ненависть куда больше проявлялась у внешне более «левых» французов – в том числе и потому, что Франция была куда больше связана с антибольшевистскими движениями и режимами, а многие французы серьезно пострадали от отказа большевиков платить царские долги. Англичане же смотрели на ситуацию прагматично: «ничего личного, только бизнес», всегда готовые иметь деловые отношения там, где это приносит выгоду, – и готовые продать ту самую веревку, о которой говорил Ленин именно по поводу торговли с Британией.
* * *Мы видим, что летом 1939 года война была уже неизбежна. Вопрос стоял лишь, в какой политической конфигурации она начнется. В этих условиях соглашение 1939 года было жизненно необходимо Германии и очень выгодно СССР. Оно позволяло им отсрочить (а в некоторых Реальностях – предотвратить) прямое столкновение между ними, при этом минимальной ценой расширив свои сферы влиянии, в первую очередь за счет сферы влияния Франции.
Тем не менее западные державы всерьез полагали, что Советский Союз не подпишет это соглашение, а современные демократически настроенные историки по сей день считают, что он был не вправе его подписывать. Даже Джордж Оруэлл, считавший Сталина изменником мировому рабочему делу, с некоторым удивлением вспоминал, как был шокирован известием о подписании Пакта.
Если говорить о моральной стороне вопроса, то разве не с Гитлером Чемберлен и Даладье чуть раньше заключили договор о разделе Чехословакии – куда более грязный, нежели пакт Молотова – Риббентропа, да к тому же бесполезный как с политической, так и с прагматической точек зрения? Однако мы видим, что Советский Союз судится с других позиций: даже противники Сталина (такие, как Оруэлл) искренне ожидали от него идеалистического поведения – и были возмущены тем, что большевики повели себя как все.[15]
25 августа, через день после заключения российскогерманского договора, британское правительство предоставило Польше гарантии территориальной целостности и заключило договор о военном союзе в случае агрессии. Поезд давно ушел, и этот запоздавший жест был обыкновенной истерикой слабого человека и бездарного политика Невилля Чемберлена, который наконец-то понял, что его обманули. В своем роде эти обязательства уникальны – никогда еще ответственный министр Его Величества не произносил подобного:
«…в случае акции, которая явно будет угрожать независимости Польши и которой польское правительство сочтет жизненно важным оказать сопротивление своими национальными вооруженными силами, правительство Его Величества сочтет себя обязанным немедленно оказать польскому правительству всю поддержку, которая в его силах».
По букве и духу этого документа вопрос о вступлении Великобритании в войну должно было решать правительство Польши!
В тот же день умный и проницательный Д. Ллойд-Джордж обратил внимание Чемберлена на это обстоятельство и заметил: «Я считаю ваше сегодняшнее заявление безответственной азартной игрой, которая может кончиться очень плохо».
30 августа в Польше была объявлена мобилизация. На следующую ночь немецкие уголовники, переодетые в польскую военную форму, захватили радиостанцию в Глейвице и выкрикнули в эфир несколько антигерманских лозунгов. Как говорил Гитлер своим генералам: «Я дам повод к развязыванию войны, а насколько он будет правдоподобным, значения не имеет».[16]
Отступление первое. Парадоксы блицкрига[17]. Кто изобрел блицкриг?
Когда заходит речь о германской стратегии начального периода войны, традиционно появляется термин «блицкриг», а за ним – слова «танки» и «танковая война». Между тем, блицкриг имел слабое отношение к стратегии и весьма опосредованное – к собственно танкам и их боевому применению.
По сути самого термина, блицкриг – это быстрая, молниеносная война, целью которой является разгром противника до того, как он сможет использовать весь имеющийся у него военный потенциал. Однако сама идея подобной войны никаким новшеством не была: в любой войне любой участник всегда желал бы опередить противника в развертывании и разгромить его как можно быстрее. Таким образом, под термином «блицкриг» должен пониматься не просто желаемый результат, а некая теория, позволяющая добиться этого результата.
Собственно говоря, на стратегическом уровне под блицкригом понимается стремление закончить войну как можно быстрее, пока противник не успел завершить мобилизацию армии и промышленности. Это было ясно еще до Первой мировой, «План Шлиффена» по сути был планом блицкрига. Уже в подготовленном Альфредом фон Шлиффеном в 1909 году служебном наставлении для германской армии «Основные принципы командования войсками» говорилось:
«Характер современного ведения войны отличается стремлением к более полному и быстрому решению. Призыв всех способных носить оружие, масса современных вооруженных сил, трудности продовольствия их, расходы, сопряженные с военным положением, перерыв в торговле и сношениях, промышленности и земледелии и при этом готовая к бою организация армии и бы строта, с которой она сосредоточивается, все это заставляет быстро кончать войну».[18]
Опыт Первой мировой подтвердил то, что уже было известно: географическое положение Германии обеспечивает ей весьма высокую вероятность войны на два фронта, причем затяжной, – а для затяжной войны у Германии не хватает ресурсов. Поэтому боевые действия должны быть завершены в предельно короткий срок, для чего в первый удар следовало вложить максимум сил и средств – не только военных, но и психологических. В этом смысле для Германии блицкриг – это не теория и не благое пожелание, а жизненная необходимость, граничное условие, без соблюдения которого война не принесет результата и в итоге окажется проиграна.
Измор и сокрушение
Надо сказать, что над проблемой быстрой войны задумывались и в других странах. Опыт Первой мировой, пусть и в разной степени, оказался печален для всех ее участников, поэтому во всех странах теоретики начали размышлять о том, как минимизировать расходы и потери, а главное – социальный эффект от последних. На некоторое время стала популярна идея малочисленных профессиональных армий. Однако всем было ясно, что если противник на нее не пойдет, а выставит на поле массовое, пусть в среднем гораздо хуже оснащенное и обученное войско, справиться с ним не удастся. И тогда в самом лучшем случае придется вновь прибегать к всеобщей мобилизации, а в худшем – подписывать капитуляцию.
Впрочем, для большинства великих держав подобные рассуждения были простым теоретизированием – Британия, США и Япония, получившие от Великой войны максимум для них возможного и защищенные морем от нападения противника, готовились к грядущему противостоянию в океанах, не особо заботясь о будущем сухопутной войны. Франция, победившая, но морально подавленная колоссальными потерями, ушла в глухую оборону, надеясь отсидеться за линией Мажино. Итальянцы могли сколь угодно теоретизировать о воздушной мощи, а поляки – мечтать о Речи Посполитой от можа до можа, но все эти построения являлись лишь абстракциями, которые их авторы были бессильны осуществить.
Но оставался еще Советский Союз. В 1920-х годах в советской военной теории шла ожесточенная борьба между двумя стратегическими концепциями будущей войны: «стратегией сокрушения» и «стратегией измора». Сторонником первой был начальник Штаба РККА, впоследствии заместитель наркома обороны М. Н. Тухачевский, сторонником второй – начальник кафедры военного искусства академии имени Фрунзе бывший генерал-майор А. А. Свечин, по характеристике комиссара этой академии Р. Муклевича – «самый выдающийся профессор академии».
Тухачевский, развивая теорию революционной войны и завороженный германской военной мыслью, заявлял, что будущую войну следует вести наступательно, с задачей быстрого разгрома противника и с расчетом на восстания в его тылу. Естественно, для решительного успеха в наступлении требовалось использовать все новшества военной техники – авиацию, танки, автотранспорт, а также более экзотические боевые средства, в итоге так и не вышедшие из стадии разработок.
В противовес ему Свечин, ориентируясь на печальный опыт Первой мировой и Русско-японской войн, доказывал, что для России с ее обширными территориями, плохими коммуникациями и богатыми, но трудно собираемыми людскими и природными ресурсами выгоднее всего будет война на истощение, где новые боевые средства, при всем их значении, не сыграют решающей роли. Как он сам писал в автобиографии 1937 года:
«В своем труде „Стратегия“ я резко высказывался против бонапартистских тенденций в военном искусстве, высказывался против увлечений, которые предполагали, что новая военная техника сводит к нулю оборону и благоприятствует молниеносному наступлению (что теперь является признанным даже в Германии), и очень неуважительно отзывался о стратегическом понимании Людендорфа и германской школы…
М. Н. Тухачевский, которого я неоднократно изобличал на диспутах (1927 г.), в литературе, на лекциях и в совещаниях, выступил с обвинением старых специалистов в реакционности и в том, что они являются проводниками пораженческого движения и буржуазной агентурой в Красной армии».[19]
В 1931 году Свечин был арестован по делу «Весна». Вряд ли он имел какое-то касательство к заговору – даже если тот был чем-то большим, нежели салонная болтовня старорежимных военспецов. В том же году М. Н. Тухачевский становится заместителем наркома военно-морских сил, председателем Реввоенсовета и начальником вооружений РККА. Казалось бы, победа в споре определена. Но ровно через год Свечина освобождают из заключения, и он получает назначение в Разведывательное управление Штаба РККА. Осенью 1936 года он получает воинское звание комбрига, всего через два месяца становится комдивом, а вскоре опять оказывается профессором вновь воссозданной академии Генерального штаба.
Тухачевский был арестован в мае 1937 года, Свечин – в декабре, пережив своего оппонента всего лишь на год. Кто из них выиграл спор? На первый взгляд, победителем стал Тухачевский – формально советская военная теория продолжала основываться на «стратегии сокрушения», требовавшей развития воздушных и механизированных сил. Страна пела о победе «малой кровью, могучим ударом». Однако политическое руководство рассматривало ситуацию совсем по-другому – именно во второй половине 30-х был сделан упор на создание промышленной базы глубоко в тыловых районах страны, развернулось усиленное строительство заводов-«дублеров» на Урале и в Сибири. Именно на эти площадки летом и осень 1941 года были эвакуированы промышленные мощности с запада страны, что позволило не только не снизить военное производство, но даже увеличить его в рекордно короткий срок, – ведь оставшиеся в Москве и Ленинграде части предприятий продолжали выпуск продукции.
«Стратегия измора немыслима, когда содержание миллионов солдат требует миллиардных расходов», – писал фон Шлиффен в своих «Каннах». Но вот стратегия измора встала против стратегии сокрушения – и выиграла.
Когда советские историки писали о «провале блицкрига», они имели в виду именно стратегический итог кампании 1941 года, а вовсе не утрату вермахтом способности проводить широкомасштабные маневренные операции. В этом смысле поворотным пунктом Второй мировой войны стал не Мидуэй, не Эль-Аламейн и не Сталинград. Им стало 6 декабря 1941 года – дата начала советского контрнаступления под Москвой. С этого момента и для советского руководства, и для германского командования итог войны был предопределен, оставался лишь вопрос: когда и какой ценой?
Инструменты блицкрига
Итак, со стратегией блицкрига все ясно – она относилась скорее к области экономики и геополитики, нежели к собственно способам ведения боевых действий. А как же с тактикой? В конце концов – кем и когда впервые был рожден этот термин и что он под собой подразумевал?
Вот что пишет по этому поводу современный историк:
«Впервые этот термин появляется в журнале „Deutsche Wehr“ в 1935 году в статье, которая рассматривает перспективы выигрыша войны государствами, не обладающими достаточной сырьевой базой. В следующий раз он появляется в „Militar-Wochenblatt“ в 1938 году, однако до начала Второй мировой войны это слово используется редко».[20]
Однако позволим себе не поверить этому утверждению, поскольку в журнале «Война и революция» за тот же 1935 год уже можно найти следующий пассаж:
«Техническое совершенствование танка позволило также приступить к организации совершенно нового рода войск – самостоятельных механизированных бронетанковых частей. Этот новый род войск, так же как и авиация, способствовал распространению всем известных и излюбленных буржуазией теорий о малых бронетанковых армиях, о молниеносной войне одними воздушными и механизированными силами».[21]
Таким образом, в 1935 году термин «молниеносная война» уже был распространен настолько, что в кругах военных специалистов мог считаться общеизвестным. Авторство его выяснить вряд ли удастся, но можно констатировать, что определение «блицкриг» родилось в германской военной литературе первой половины 1930-х годов – возможно, еще до прихода к власти нацистов.
Собственно, маневренной войной немцы заинтересовались гораздо раньше. Уже в докладе перед высшим командованием германской армии 18 февраля 1919 года – еще до Версаля! – Ганс фон Сект, бывший начальник турецкого Генштаба и будущий руководитель германского «Труппенамт», так сформулировал задачи подвижных сил:
«Для операций на больших пространствах, свойственных природе кавалерии, ей требуется поддержка пехоты, потому что без последней огневая мощь кавалерии заметно падает… Эти пехотные подразделения, предназначенные для поддержки действий кавалерии, должны быть маневренными и использовать автомобильный транспорт… Разнообразие задач, лежащих перед кавалерийской дивизией, требует наличия мобильной, но эффективной артиллерии… В таких операциях на обширных территориях, когда тыл остается далеко позади, очевидно, что важную роль будут играть средства связи – особенно беспроводной».[22]
Уже в 1921-1923 годах под контролем Секта было подготовлено наставление «Управление и взаимодействие родов войск в бою», ставшее главным руководством в подготовке нового германского рейхсвера. Этот документ рассматривал будущую войну как маневренную, а наступление – как единственный способ добиться победы.
В отечественной литературе приоритет разработки тактики маневренной войны традиционно отдавался трудам советских военных теоретиков 1920-х годов – в первую очередь В. К. Триандафиллову с его «теорией глубокого боя». Однако Владимир Кириакович, создавая свою теорию в конце 20-х годов, рассматривал общие вопросы прорыва вражеской обороны с комплексным использованием всех существующих боевых сил и средств, одним из которых назывались танки. Лишь в следующем десятилетии «глубокому бою» суждено было превратиться в «глубокую операцию» и войти в Полевой устав Красной армии 1936 года. Только теперь танки и подвижные войска официально были признаны одним из главнейших элементов операции, способствующих достижению успеха. Впрочем, даже тогда теория глубокой операции куда больше внимания уделяла взаимодействию родов войск, нежели собственно действиям подвижных сил.
Безусловно, наиболее знаменитым теоретиком именно подвижной войны стал Гейнц Гудериан. Вот только если внимательно просмотреть его работу «Внимание, танки!», опубликованную в 1937 году (и сразу переведенную в нескольких странах мира, в том числе и в СССР), обнаруживается, что, собственно, про тактику бронетанковых сил он пишет не очень много. Да, Гудериан отмечает необходимость «моторизации хотя бы только тех стрелковых частей, которые должны находиться в постоянном взаимодействии с танковыми соединениями, наподобие того как это рекомендует полковник де Голль». Он пишет о вариантах взаимодействия танков с пехотой, совершенно справедливо отмечая, что:
«пехоте, во всяком случае, должно быть ясно, что танковая часть не освобождает ее от обязанности драться самой; танки могут только значительно облегчить задачу тяжелого пехотного боя, часто же – лишь сделать возможным ведение последнего».
Некоторое внимание Гудериан уделяет и тактике моторизованной пехоты:
«Задача пехоты или, еще лучше, моторизованных стрелков – незамедлительно использовать влияние танковой атаки для быстрейшего движения вперед и своими собственными действиями завершить овладение участком, захваченным танками, и очистить его от противника».
Наконец, Гудериан рассматривает взаимодействие танков с другими родами войск – в первую очередь с артиллерией, особо отмечая перспективность появления артиллерии на бронированных лафетах. При этом опять-таки со ссылкой на полковника де Голля!
В целом книга Гудериана представляет собой обзор современных ей зарубежных (в первую очередь французских) взглядов на боевое использование танков. Она не содержит каких-либо оригинальных мыслей, теорий или умозаключений – все они были приписаны Гудериану позднее. Опять-таки, вот что пишется про блицкриг сейчас:
«В основе идеи блицкрига лежит использование маневра, а не уничтожения как главного способа достичь победы. Для этого проводятся операции при тесном взаимодействии всех родов войск. При этом главный удар наносят танки при поддержке моторизованной пехоты, мобильной артиллерии и авиации поля боя. Такая тактика требует высокой подвижности войск, специальной службы снабжения, надежной связи и децентрализованной структуры командования. Немецкие войска, использовавшие тактику блицкрига, избегали прямых столкновений, предпочитая нарушать коммуникации и окружать войска противника, предоставляя уничтожение котлов артиллерии и авиации».[23]
А теперь сравним это описание – безусловно, справедливое – с упомянутым выше наставлением рейхсвера 1923 года:
«Ситуации замешательства и неопределенности – это норма для маневренной войны. Обычно в тех случаях, когда воздушная разведка оказывается безрезультатной, информацию о противнике можно получить только в ходе непосредственного контакта… Командир на месте несет особую ответственность. Он не должен принимать решения, основываясь на тщательной, отнимающей много времени разведке. Он должен отдавать приказы в запутанной ситуации и может предполагать, что враг не больше готов к сражению, чем он сам».
Как видим, здесь сказано практически то же самое, только другими словами. Более того, устав фон Секта обращает внимание не только и не столько на схему действий, требующуюся для маневренной войны, сколько на общие принципы действий в этой войне, в итоге формирующие то, что ныне принято именовать «драйвом».
Почему же именно Гудериан прославился как создатель танкового блицкрига? Очевидно, лишь потому, что ему впервые в истории довелось успешно применить эту технологию войны на практике. Не удалось бы – великим танковым теоретиком ныне считался бы де Голль, «Быстроходный Шарль». А если бы война пошла совсем по-другому, возможно, Гудериан стал бы немецким национальным героем в роли лидера сопротивления французской оккупации, а затем сделался бы президентом Германской республики…
Технология блицкрига
Таким образом, блицкриг являлся не теорией и не стратегией – в первую очередь он был технологией. В чем же состояла эта технологи, кого можно назвать ее автором и как рождался опыт ее практического применения? И вот здесь мы сталкиваемся с удивительными разногласиями среди историков и даже военных.
Все согласны, что на оперативно-тактическом уровне блицкриг обеспечивается действиями подвижных войск – танками и мотопехотой. Уже цитировавшийся нами Александр Больных формулирует их так:
«Войска наносят удар как можно быстрее, прямо с марша. Атака ведется на узком фронте как можно более крупными силами… Целью первой атаки является прорыв вражеского фронта. Через брешь немедленно проходят свежие силы, которые развивают наступление, обходя главные позиции врага. Такая тактика имеет целью вывести танковые подразделения за линию фронта, чтобы они могли перерезать вражеские коммуникации.
Сразу за ударной группировкой следуют силы поддержки, которые состоят в основном из моторизованной пехоты. Их задачей является ликвидация оставшихся узлов сопротивления противника, расширение прорыва вражеского фронта, закрепление флангов… Еще раз подчеркнем принципиальное отличие тактики блицкрига от всех остальных методик: пехота поддерживает действия танковых частей, а не наоборот! После прорыва фронта ударная группировка продолжает мчаться вперед, имея целью окружить как можно более крупные силы противника».[24]
В принципе, изложение совершенно верное – за исключением того, что задачей мотопехоты является удержание не горловины прорыва (с этим вполне справится обычная пехота), а ключевых пунктов («шверпунктов») в глубине вражеской обороны, до которых простая пехота еще не враз доберется.
А теперь зададим вопрос: при чем же здесь танки? В описанной схеме основную задачу выполняет подвижная пехота на автомашинах или бронетранспортерах, перехватывающая коммуникации противника и организующая кольцо блокады вокруг окруженной группировки. Танки нужны лишь для штурма узлов сопротивления противника в глубине его обороны, когда их успели вовремя занять резервы. Кроме того, танки, благодаря их высокой проходимости, активно используются для обхода локальных позиций и заслонов, которые обороняющийся выстраивает на пути вражеского наступления. Все эти действия, как правило, производятся при поддержке спешенной мотопехоты.
Иногда приходится слышать, что остановить танковый удар чрезвычайно просто – достаточно перехватить ключевые дороги, по которым движутся вражеские танковые колонны, и удерживать их достаточно долго – до подхода резервов. Увы, «танковая дорога» («панцерштрассе») – это вовсе не шоссе, по которому наступают танки, а в первую очередь линия питания наступающей группировки, где движутся бесчисленные колонны автомобилей с топливом, продовольствием и боеприпасами.
Конечно, танкам тоже удобнее двигаться по шоссе – так расходуется меньше топлива, менее изнашиваются гусеницы; наконец, так просто быстрее. Однако, в отличие от колесного транспорта, танки способны двигаться и по пересеченной местности, иначе они ничем бы не отличались от бронеавтомобилей.
При этом отметим важную деталь: в первом периоде войны непосредственно для прорыва обороны немцы старались танки не применять. Штурм осуществлялся пехотными подразделениями, желательно – даже не принадлежащими к моторизованным частям. Эта пехота могла поддерживаться штурмовыми орудиями, которые по немецкой классификации к танковым войскам не относились. Танки полагалось вводить в «чистый прорыв».
Танки – для бедных?
Встречается утверждение, что тактика блицкрига, как и его стратегия, была рождена бедностью – отсутствием у немцев хороших танков. Дескать, если бы были у немцев в 1935 году «Тигры», никакие блицкриги никаким Гудерианам и в голову бы не пришли. Увы, это всего лишь развитие любимой немецкой легенды, объясняющей обидные поражения блестящего и непобедимого вермахта. После сетования на мороз, распутицу и плохие дороги «битые немецкие генералы» очень любят перечислять, чего у них не было, – при этом, как правило, забывая перечислять, что у них было из того, что отсутствовало у их противников.
Как правило, стенания о бедности и плохой оснащенности вермахта подкрепляются «наглядной» цифрой, кочующей из книги в книгу: на 22 июня 1941 года Красная армия имела 23 тысячи танков, а вермахт – всего 3,5 тысячи. Авторы, приводящие эти цифры, забывают упомянуть (а чаще просто не знают), что первая включает все советские танки, а вторая – те машины, которые числились только в танковых дивизиях и лишь на Восточном фронте. Без штурмовых орудий, САУ и отдельных танковых батальонов (а были у немцев и такие). В реальности советское превосходство в количестве бронетехники было гораздо менее значительным – примерно 12 тысяч боеготовых пушечных танков во всех западных военных округах против порядка 5 тысяч пушечных танков у немцев и их союзников.
Но гораздо важнее то, что германская армия вторжения (даже без союзников) имела 600 тысяч автомобилей, а РККА во всех западных военных округах – лишь 150 тысяч машин. Проще говоря, против 7 тысяч «лишних» советских танков немцы выставляли 450 тысяч «лишних» автомобилей. Эти машины не только обеспечивали вермахту несравненно более высокую маневренность – они давали возможность лучшего снабжения войск боеприпасами и продовольствием, тем самым усиливая их мощь как в обороне, так и в наступлении. Гораздо лучше иметь пушку и десять грузовиков со снарядами, нежели десять пушек и один грузовик со снарядами на всех.



