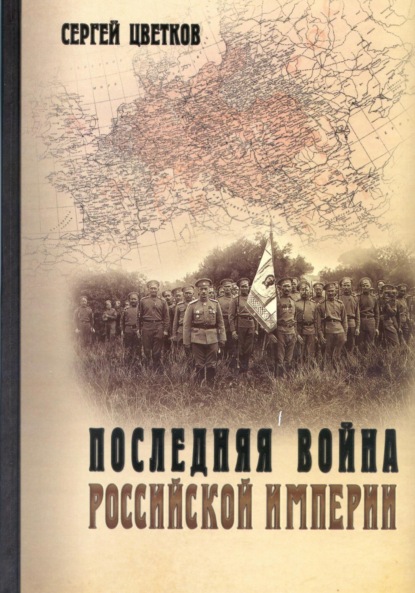
Полная версия:
Последняя война Российской империи
На следующий день придворный фотограф сделал снимок всех приехавших царствующих особ. В первом ряду, посередине, сидел новый король Англии – Георг V. Для русского царя и германского кайзера он был просто «кузеном Джорджи».
Сорокапятилетний Георг не обладал дипломатическими талантами своего отца, у него не было ни его чутья, ни умения подать себя; врожденный вывих коленных суставов доставлял ему много страданий и мешал ему держаться с естественной непринужденностью. Он вступил на престол, не имея никакого опыта ведения государственных дел. Выступить с публичной речью было для него сущим мучением. Жизнь на Олимпе вообще была ему не по душе, он предпочел бы ей тихую жизнь сельского сквайра. Первое время после воцарения сознание свалившейся на его плечи ответственности вызвало у Георга приступы бессонницы. Только глубокая порядочность и чувство долга заставляли его с полной готовностью отдаваться ежедневным государственным занятиям. «Похоже, он действительно неплохой парень», – заметит вскоре лорд Эшер.
Кайзер надеялся, что в руках «кузена Джорджи», – домоседа, плохо знающего иностранные языки и совершенно не интересовавшегося историей и культурой континентальной Европы – союзные узы, связывавшие страны Антанты, ослабнут. Неисправимый почитатель династических связей, он предпочитал не видеть, что английская внешняя политика находится в руках тех же людей, которые окружали Эдуарда VII, а Георг даже не пытается следовать примеру отца и действовать независимо от своих министров.
Несколько потеплели и отношения Вильгельма с «кузеном Ники». В конце лета 1910 года императорская чета посетила владения герцога Гессенского. Великие княжны и наследник цесаревич Алексей сопровождали своих родителей. Это была самая продолжительная поездка царской семьи за границу – Романовы задержались в гостях до исхода октября. Заграничный вояж носил частный характер – врачи предписали императрице Александре Федоровне пройти курс лечения на знаменитом курорте Бад-Наугейм, славящемся своими целебными источниками. Герцог Эрнст Людвиг приходился русской императрице родным братом, поэтому визит протекал в сердечной, домашней обстановке. Пользуясь отсутствием стеснительного этикета, Николай II с удовольствием облачился в штатское платье. Многие придворные, впервые увидев государя в простом сюртуке, были весьма удивлены.
Под занавес пребывания в Германии царь посетил Потсдам, где у него состоялась встреча с «кузеном Вилли», отмеченная важными переговорами по разделу сфер влияния в Персии и отличной охотой. В устной форме государи пообещали друг другу не поддерживать политику третьих государств, которая могла бы поссорить их страны.
Благодушное настроение, царившее в Европе в 1910 году, подвигло авторов одиннадцатого издания энциклопедии «Британника» оповестить своих читателей о том, что «в скором времени национальные различия останутся только в области образования и экономики».
Словно в насмешку над этими словами в следующем году разразился один из самых острых кризисов в отношениях между Германией и Антантой.
Весной 1911 года вспыхнуло восстание в Марокко. Французское правительство под предлогом защиты своих граждан ввело войска в столицу султаната – город Фез. Фактически это означало, что Франция обзавелась новой колонией. Германское присутствие в Марокко ограничивалось двумя фирмами, действовавшими в Агадире и Могадоре (на западном берегу). Раздувать конфликт, в общем-то, было не из-за чего. Но германский статс-секретарь по иностранным делам Альфред фон Кидерлен-Вехтер, вопреки желанию своего прямого начальника канцлера Бетман-Гольвега, убедил кайзера пойти на ответные меры. Его целью было воспрепятствовать переходу Марокко под власть Франции или же, на худой конец, получить компенсацию – Французское Конго или хотя бы один портовый город на Атлантическом побережье.
Повторялась ситуация 1905 года. Только теперь вместо лайнера с кайзером на борту в агадирскую гавань вошла германская канонерская лодка «Пантера». В скором времени ожидалось прибытие подкрепления – крейсера «Берлин», также направлявшегося в марокканские воды.
«Прыжок „Пантеры”» наделал шума во всем мире. Франция была застигнута врасплох, германские газеты захлебывались от восторга. Общее напряжение возрастало с каждым днем. И вдруг в дело вмешалась Англия, встав плечом к плечу с Францией. Британское правительство признало укрепление Германии на атлантическом побережье задевающим интересы Англии. По поручению кабинета канцлер казначейства Дэвид Ллойд Джордж публично дал знать германскому правительству, что «если Германии желает воевать, то она найдет Великобританию на противной стороне». Британский флот был приведен в боевую готовность.
Для кайзера резкий демарш Англии стал полной неожиданностью. До сих пор ни он, ни кто-либо еще среди европейских политиков, не рассматривал Антанту как военный блок. Англичане не поддержали Францию в марокканском кризисе 1905 года, а во время боснийского кризиса они вместе с французами оставили Россию один на один против Австро-Венгрии и Германии. Прямая угроза войны с Англией напугала Вильгельма, тем более что Австрия не проявляла готовности поддержать своего союзника. Он не решился переступить черту.
17 августа кайзер провел совещание со своим окружением. Было решено уступить. «В момент реальной опасности, – ехидничал Бюлов, – Его Величество каждый раз проникался неприятным сознанием того факта, что он никогда не командовал армиями в реальных сражениях – несмотря на маршальский жезл, которым он так любил размахивать, несмотря на медали и ордена, которыми он так любил себя украшать, несмотря на псевдопобеды, которые ему неизменно присуждали на маневрах. Он прекрасно понимал, что он не более чем обычный неврастеник, лишенный каких-либо полководческих талантов, а уж что касается морских дел, то при всей своей увлеченности ими он не способен командовать не только эскадрой, но и даже одним-единственным кораблем».
На переговорах с французами Германия безоговорочно признала протекторат Франции над Марокко и удовольствовалась никчемной компенсацией в виде заболоченной области Французского Конго, населенной главным образом мухами цеце.
К этому времени шовинистический угар во всех странах, задействованных в агадирском конфликте, достиг своего апогея. Депутаты Рейхстага встретили сообщение Бетман-Гольвега о договоре с Францией гробовым молчанием, зато начальник Главного штаба Мольтке-младший44 бушевал: «Если мы еще раз вынуждены будем убраться с поджатым хвостом, если мы опять не сможем решиться открыто заявить, что готовы пустить в ход меч, тогда я потеряю веру в будущее Германии и уйду в отставку…». Германские газеты изливали на Антанту потоки ненависти. Пресса стран Антанты, в свою очередь, издевательски смаковала дипломатическое унижение Германии.
В следующем году состоялась генеральная репетиция будущей войны.
На этот раз спичку к пороховой бочке поднесли Италия и балканские государства, объединенные усилиями русской дипломатии в «балканский блок». Итальянское правительство еще 5 ноября 1911 года официально провозгласило аннексию североафриканских владений Османской империи – Триполитании и Киренаики. Италия играла в беспроигрышную игру. Она знала, что протеста со стороны великих держав не последует – его и не последовало. Антанта желала видеть Италию в своих рядах, Германия и Австрия боялись ее выхода из Тройственного союза. В последовавшей затем итало-турецкой войне итальянская эскадра бомбардировала Бейрут, дарданелльские укрепления и захватила дюжину турецких островов на Эгейском море.
Победы итальянцев продемонстрировали полное бессилие турецкой армии. Балканские государства не захотели упустить такого случая и поспешно приступили к разделу турецкого наследства. Осенью 1912 года Черногория, Сербия, Болгария и Греция объявили войну Турции. Военные действия напоминали триумфальный марш союзных армий. Через месяц турки потеряли все свои владения на европейском берегу, а болгарская армия стояла в 40 км от Константинополя. Турецкое правительство обратилось к великим державам с просьбой о посредничестве.
Русский министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов был крайне недоволен самоуправством балканских государств, начавших раздел Турции против воли России, в невыгодный для нее момент45. Англия и другие великие державы ввели свои корабли в турецкие порты. В этих условиях русская армия не могла обеспечить захват и удержание черноморских проливов. Кроме того, приходилось считаться с перспективой войны против Австро-Венгрии и Германии. Наконец, даже временное закрытие турками Дарданелл – морских ворот, через которые проходило 60% русского хлебного экспорта, – грозило русской экономике многомиллионными убытками. Поэтому Россия выступила в несвойственной ей роли защитника территориальной целостности Османской империи. По ее настоянию, другие великие державы согласились решить балканский вопрос на международной конференции.
Отнять победу у победителей, было, однако, уже невозможно. Раздел Османской империи стал свершившимся фактом.
Военные успехи сербов и черногорцев страшно обеспокоили Австрию, стремившуюся не допустить выхода Сербии к Адриатическому морю и чрезмерного усиления Черногории. В ноябре Австро-Венгрия провела частичную мобилизацию и сосредоточила крупные силы на сербской границе.
Ситуация развивалась по сценарию трехлетней давности. Но теперь в русском правительстве преобладали совсем иные настроения, чем во время боснийского кризиса. Реорганизация армии шла ускоренными темпами, и многие члены Совета министров были преисполнены решимости «упорно отстаивать наши насущные интересы и не бояться призрака войны». Говорили о том, что России пора перестать «пресмыкаться перед немцами», что русский народ «лучше нас понимает необходимость освободиться от иностранного влияния». Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов с большим успехом развивал перед государем свои мысли о том, что «все равно войны нам не миновать, и нам выгоднее начать ее раньше», поскольку «из войны произойдет только одно хорошее для нас». Он всеми силами убеждал Николая II согласиться на мобилизацию двух приграничных с Австрией военных округов. При этом Сухомлинов проявлял поразительное легкомыслие: отлично сознавая, что указ о мобилизации может вызвать войну, он в то же время ходатайствовал о предоставлении ему отпуска для увеселительной поездки на Ривьеру. В ответ на недоумение других членов кабинета он без тени смущения сказал: «Что за беда, мобилизацию производит не лично военный министр, и пока все распоряжения приводятся в исполнение, я всегда успел бы вернуться вовремя. Я не предполагал отсутствовать более 2-3 недель».
Все это происходило на фоне шумных манифестаций в пользу балканских славян, в которых участвовали десятки тысяч человек.
На спусковой крючок готово было нажать и французское правительство, заверившее Петербург, что если в войну вмешается Германия, то Франция полностью выполнит свои союзнические обязательства.
Председателю Совета министров Владимиру Николаевичу Коковцову, убежденному стороннику мирного курса, стоило немалого труда охладить воинственный пыл своих коллег. По его совету был задержан под знаменами на полгода весь последний срок службы – эта мера позволяла увеличить состав армии на четверть, не прибегая к мобилизации, на которую Австрия с неизбежностью ответила бы войной.
Франции и Сербии были посланы недвусмысленные сигналы о нежелании России ввязываться в войну с Австро-Венгрией. Российский военный атташе в Париже граф Алексей Алексеевич Игнатьев в беседе с военным министром Франции Александром Мильераном заявил, что хотя «славянский вопрос остается близким нашему сердцу, но история выучила, конечно, нас прежде всего думать о собственных государственных интересах, не жертвуя ими в пользу отвлеченных идей». На прямой вопрос французского МИДа: «Какие действия предпримет Россия в случае нападения Австрии на Сербию?» – русский ответ был: «Россия не будет воевать». Сербское правительство получило ноту министра иностранных дел Сазонова, которая гласила: «Категорически предупреждаем Сербию, чтобы она отнюдь не рассчитывала увлечь нас за собой…». Под воздействием русской дипломатии Сербия сняла свои территориальные претензии и отказалась от выхода к Адриатическому морю.
На позицию Германии в балканском кризисе 1912 года вновь повлияла твердая решительность Англии.
Поначалу Австрии, как и в 1909 году, была обещана полная поддержка, «невзирая на последствия», по словам кайзера. Но прошлогодние события посеяли в нем нерешительность. Вильгельм попытался выяснить, на чьей стороне выступит Великобритания. Ответ был неутешительным. В начале декабря по разным каналам поступили сообщения: англичане не останутся безучастными наблюдателями австрийского вторжения в Сербию и не допустят поражения Франции.
На военном совете 8 декабря с участием высшего руководства армии и флота Вильгельм не мог сдержать свою ярость: «Из-за того, что Англия… так нам завидует и так нас ненавидит, из-за этого, оказывается, ни одна прочая держава уже не имеет права взять в руки меч для защиты своих интересов, а сами они… собираются выступить против нас! О, эта нация лавочников! И это они называют политикой мира! Баланс сил! В решающей битве между немцами и славянами англосаксы на стороне славян и галлов!». Кайзер был настроен решительно, но хотел знать, каковы шансы у Германии в войне с Антантой.
Мнение Мольтке выглядело прямой цитатой из речи Сухомлинова: «Я считаю войну неизбежной, и чем быстрее она начнется, тем лучше…». Но гросс-адмирал Тирпиц высказался против поспешных решений. По его словам, флот еще не был готов померяться силами с английскими дредноутами, требовалось не менее восемнадцати месяцев для окончания работ по расширению Кильского канала и строительства базы подводных лодок на острове Гельголанд. Мольтке скептически поморщился – незачем ждать полтора года, «флот и тогда будет не готов, а армия окажется к тому времени в менее выгодном положении; противник вооружается более интенсивно, чем мы, у нас не хватает денег». Тирпиц все же настоял на своем. Германский меч не был извлечен из ножен. Бетману-Гольвегу было дано поручение «просветить народ через прессу о великих национальных интересах, которые будут поставлены Германией, если австро-сербский конфликт перерастет в войну. В случае войны народ не должен задаваться вопросом, ради чего сражается Германия».
Вообще, именно в 1912 году мышление кайзера приняло катастрофический характер. Причем, грядущий европейский апокалипсис виделся ему в свете теории борьбы рас. Так, на полях одного дипломатического донесения Вильгельм начертал: «Глава вторая Великого переселения народов закончена. Наступает глава третья, в которой германские народы будут сражаться против русских и галлов. Никакая будущая конференция не сможет ослабить значение этого факта, ибо это не вопрос высокой политики, а вопрос выживания расы». Австрийский генерал граф Штюркг позднее слышал от кайзера следующие слова: «Я ненавижу славян. Я знаю, что это грешно. Никого не следует ненавидеть, но я ничего не могу поделать: я ненавижу их».
Современники связывали расистские высказывания кайзера с влиянием профессора Шимана, который считался экспертом по России. Вильгельм оказывал этому остзейскому немцу, одержимому ненавистью к славянству, неизменное благоволение. Еще ранее кайзер с большим интересом ознакомился с «Основным мифом XIX века» Чемберлена; автор был награжден Железным крестом.
Кроме Вильгельма, никакой другой политический лидер в то время не рассматривал противостояние Антанты и Центральных держав в расовом аспекте.
Психологический перелом наблюдался и в поведении Николая II. Царем словно овладела какая-то усталость, фаталистическое желание предоставить событиям идти своим чередом. Коковцов вспоминал один из последних своих докладов государю. Это было уже в ноябре 1913 года, после возвращения Коковцова из поездки в Берлин. Царь принял его в Ливадийском дворце в Крыму. Коковцов рассказал о воинственных настроениях при дворе Вильгельма и своем тревожном убеждении в близости и неотвратимости войны. Николай слушал внимательно: «Он ни разу не прервал меня за все время моего изложения и упорно смотрел прямо мне в глаза, как будто ему хотелось поверить в искренность моих слов. Затем, отвернувшись к окну, у которого мы сидели, он долго всматривался в расстилавшуюся перед ним безбрежную морскую даль и, точно очнувшись после забытья, снова упорно посмотрел на меня и сказал <…>: “На все Воля Божья!”»
По всей видимости, Николай II все еще находился под впечатлением пышного празднования 300-летия дома Романовых. Торжества начались в феврале и продолжались весь год. Государь с семьей совершил большое путешествие по русским городам. Десятки тысяч людей, стоявшие вдоль пути следования царского поезда, бесконечная череда парадных обедов, крестных ходов, молебнов, народных гуляний должны были засвидетельствовать неразрывное единение царя с народом. На мистический настрой государя мог влиять и Распутин, именно тогда окончательно утвердивший свое исключительное положение при царской семье. Царь, подобно своему германскому кузену, стремительно утрачивал адекватное восприятие действительности.
Кризис 1912 года окончательно выяснил расклад сил перед решающей схваткой.
Обмен угрозами продолжился и в начале 1913 года. На полях доклада канцлера Бетман-Гольвега о ситуации на Балканах Вильгельм сделал надпись: нужна, наконец, провокация, чтобы получить возможность нанести удар, «при наличии более или менее ловкой дипломатии и ловко направляемой прессы таковую (провокацию) можно сконструировать… и ее надо постоянно иметь под рукой».
Однако уже было ясно, что войны опять не будет. В последних числах января 1913 года Ленин в письме Горькому с сожалением обронил: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие».
Мир на Балканах настал в мае. Турция признала свое поражение и потеряла почти все европейские владения, отошедшие к странам «балканского блока».
24 мая состоялась свадьба единственной дочери кайзера принцессы Виктории Луизы и герцога Брунсвикского. Вильгельм пригласил на торжество обоих своих кузенов – Джорджи и Ники. Оба прибыли лично. Позднее Георг V сетовал, что ему было чрезвычайно трудно поговорить по душам с русским государем: Вильгельм всюду следовал за ними по пятам, боясь, что Джорджи и Ники войдут в сговор против него. Когда им все же удавалось остаться наедине, Георга не покидало чувство, что «Вильгельм стоит, прижавшись ухом к замочной скважине».
То была последняя встреча трех монарших кузенов.
Затишье на Балканах продлилось всего месяц. Бывшие союзники не смогли поделить захваченных у Турции территорий, и в конце июня началась Вторая Балканская война. Теперь Греция, Сербия и Черногория выступили против Болгарии. Вскоре к антиболгарской коалиции присоединились Румыния и Турция. Великие державы вели себя на этот раз намного сдержаннее. Спустя месяц война завершилась поражением Болгарии и новой перекройкой границ между балканскими государствами.
Следом за тем вновь обострились русско-германские отношения. Кайзер попытался усилить германское влияние в Турции. 30 июля 1913 года в Стамбул по приглашению турецкого правительства прибыл Отто Лиман фон Сандерс – один из лучших немецких генералов. Чуть позже к нему присоединились сорок офицеров-инструкторов. Сандерсу было поручено следить за реорганизацией турецкой армии. Кроме того, он был назначен командиром расквартированного в Стамбуле армейского корпуса и членом турецкого Военного совета.
В Петербурге восприняли эту новость крайне болезненно. Работа германской военной миссии явно имела целью подготовить турецкую армию к войне с Россией. Боялись также, что экономическое развитие юга России попадет под германский контроль. Переговоры Коковцова по этому вопросу с Бетман-Гольвегом и Вильгельмом II были безрезультатны. Конфликт вокруг миссии Сандерса несколько разрядился лишь в январе 1914 года, когда генерал под благовидным предлогом был отстранен от непосредственного руководства гарнизоном Стамбула – его произвели в маршалы турецкой армии и назначили военным инспектором всех турецких войск.
С самого начала балканского кризиса 1912—1913 годов великие державы принялись за усиленное наращивание вооружений. Благодаря продолжительному экономическому росту правительства могли позволить себе немыслимые ранее военные траты.
Германия приступила к формированию двух новых армейских корпусов. Морская программа, принятая рейхстагом в мае 1912 года, предполагала увеличить численность германского флота до 41 линейного корабля и 20 броненосных крейсеров, не считая легких крейсеров и миноносцев.
В ответ на это Черчилль пообещал палате общин, что в ближайшее время мир увидит самое большое строительство в истории британского флота: «Один торпедный катер в неделю… Один легкий крейсер каждые тридцать дней… один супердредноут каждые сорок пять дней». В 1914 году британское правительство приобрело контрольный пакет Англо-Иранской нефтяной компании, чтобы иметь возможность заправлять корабли жидким топливом вместо угля.
Французское правительство законом от 7 августа 1913 года увеличило продолжительность службы с двух до трех лет и снизило призывной возраст с 21 года до 20 лет. Это позволило Франции сформировать самую большую армию мирного времени в Европе – 882 907 человек, включая колониальные войска (предвоенная численность германской армии была доведена до 808 280 человек).
В российском бюджете на оборону приходилось уже около трети всех государственных расходов. В конце 1913 года была утверждена «Большая программа по усилению армии», которая предусматривала увеличение численности сухопутных войск почти на 40%; большое внимание было уделено полевой артиллерии и морскому строительству. Уже через три года русское правительство планировало иметь самую первоклассную армию на континенте.
Значительное увеличение военных расходов утвердили также австрийский и итальянский парламенты. Все рекорды побила крохотная Бельгия, которая предполагала к 1918 году увеличить армию мирного времени более чем втрое.
Празднование в 1913 году столетнего юбилея освобождения Германии от владычества Наполеона вылилось в масштабную антифранцузскую демонстрацию. Пресса напоминала немцам, что не за горами тот час, когда опять придется воевать с тем же «историческим» врагом немецкой нации.
Милитаризация в Германии достигла такого размаха, что назойливо лезла в глаза даже на улице. Российский публицист Александр Валентинович Амфитеатров вспоминал, как поразила его Германия весной 1913 года: «Она показалась мне как бы обновленною и могуче выросшею. Восхитила и ужаснула. Огромная, гениальная культура – как бы в пристройке к образцовому военному лагерю. Все, что сильно, крепко, здорово, – в военном мундире: сытый, розовощекий, автоматически стадный, идеально выдрессированный на человекоистребление, вооруженный люд… И как вооруженный! Любуйся и трепещи! А штатское население слабовато, хиловато, бледновато и подслеповато: на десять человек шестеро в очках. Наглядно было, что государство заставляет страну жить в военщину, а военщину кормит страной, конечно, не для парадов и маневров».
«Не знаю, – подводит Амфитеатров итог своим впечатлениям, – кто тогда в Германии желал войны, и вообще желали ли немцы войны. Но воздух был напоен войною – и притом войною, заведомо победоносною» («Борьба с немецким богатырем»).
Такие же чувства испытал протопресвитер русской армии и флота Георгий Шавельский, побывавший в 1913 году на праздновании столетнего юбилея Битвы народов при Лейпциге: «Вот она, Германия! Стройная, сплоченная, дисциплинированная, патриотическая. Когда национальный праздник – тут все, как солдаты; у всех одна идея, одна мысль, одна цель и всюду стройность и порядок. А у нас все говорят о борьбе с нею… Трудно нам, разрозненным, распропагандированным, тягаться с нею».
Впрочем, так называемый здравый смысл отказывался драматизировать ситуацию. Максим Горький, например, находил, что Амфитеатров преувеличивает германское могущество. Германская военщина, по словам писателя, была «не так сильна, как… кажется, германские социалисты не допустят страну до войны, а если бы таковая и приключилась, то германский натиск пламенный встретит в России отпор суровый, на коем сломает свои рога».
К концу 1913 года политические страсти поутихли. Канцлер Бетман-Гольвег напомнил сторонникам превентивного удара: «До сих пор ни одна страна не покушалась на честь или достоинство немцев. Тот, кто в этих условиях говорит о войне, должен убедительно сформулировать ее цель и доказать, что иным путем этой цели достичь невозможно… Если в настоящее время имеется в виду начать войну в отсутствие разумных и понятных мотивов, то это поставит под сомнение будущее не только династии Гогенцоллернов, но и Германии в целом. Конечно, мы должны проявлять смелость в нашей внешней политике, но просто размахивать мечом по каждому случаю, когда не затронуты ни честь, ни безопасность, ни будущее Германии, – это не просто легкомысленно, но и преступно».



