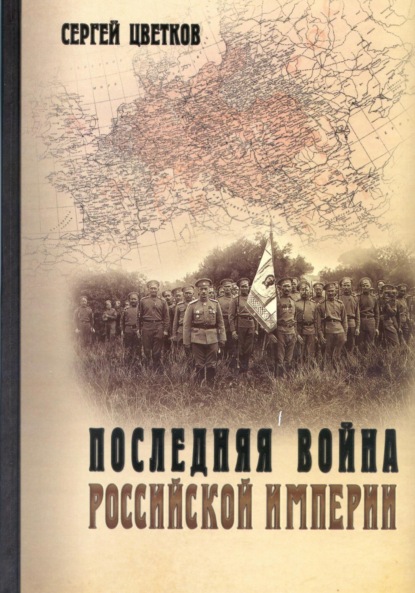
Полная версия:
Последняя война Российской империи
Задуманный им план требовал обстоятельной дипломатической подготовки. Помимо открытой конфронтации с Турцией, перед Эренталем стояло еще несколько затруднений. Преобладающим населением Боснии и Герцеговины были сербы. Когда в 1878 году австрийцы оккупировали эти земли, Сербия не выказала ни малейшего неудовольствия. Правившая в ней тогда династия Обреновичей вела откровенно проавстрийскую политику, за что заслужила лютую ненависть в народе. В 1903 году недовольство вылилось в заговор. Последний Обренович, король Александр I, был зверски убит36, и на престол взошел Петр I из династии Карагеоргиевичей. Он был очень популярен в народе и считался другом России. Его мечтой было увидеть Боснию и Герцеговину в составе Великой Сербии.
Барон Эренталь не собирался учитывать сербские мечтания. Он был готов применить против Сербии военную силу, но для этого требовалось заручиться поддержкой России. Многолетнее знакомство с петербургской дипломатической кухней давало ему основанию думать, что он справится с этой задачей.
Наконец, присоединение Боснии и Герцеговины не могло состояться без согласия других европейских государств, гарантирующих исполнение условий Берлинского трактата. Эренталь надеялся, что могучий союзник Австрии – германский кайзер Вильгельм II поможет удержать их от враждебных шагов.
Таковы были обстоятельства, при которых предприимчивый барон вступил в переговоры со своим русским коллегой.
Министр иностранных дел Российской империи Александр Петрович Извольский являл собой тип либерального русского барина, англофила по привычкам и пристрастиям, прекрасно начитанного, блестяще владеющего искусством остроумной салонной беседы. Его породистая внешность, слегка надменный взгляд уверенного в себе человека производили известное впечатление даже на высокопоставленных особ. Английский король Эдуард VII признавал русского министра дипломатом «большого стиля». Впрочем, не было недостатка и в тех, кто отзывался о нем как о позере. Сам Александр Петрович был о себе весьма высокого мнения и, не скупясь, раздавал своим иностранным собратьям нелестные эпитеты, – так, французского министра иностранных дел он называл «человеком универсальной некомпетентности».
Руки Извольского были связаны особой статьей австро-германо-русского соглашения 18 июня 1881 года (документа времен «Союза трех императоров»), которая давала Австро-Венгрии право аннексировать Боснию и Герцеговину «в то время, когда найдет это нужным». Таким образом, формального повода для протеста у России не было. Более того, в российском внешнеполитическом ведомстве полагали, что австрийскую аннексию «нельзя признать неблагоприятной» для русских интересов, ибо она приведет к «окончательному перевесу в австро-венгерской монархии славянского элемента с прибавкой к существующей уже там значительной пропорции православных сербов, издавна нам сочувствующих». Однако Извольский не собирался делать Австрии подарка, полагая, что за лояльность в боснийском вопросе Россия вправе потребовать существенной компенсации, – а именно, согласия на свободный проход для русского черноморского флота через проливы.
Со времен Крымской войны 1853—1856 годов Черное море имело статус mare clausum37. Константинопольские проливы были закрыты для военных судов всех стран. Русские государственные деятели, в общем, смирились с тем, что на страже русского черноморского побережья стоит «швейцар в турецкой ливрее».
Но затем события русско-японской войны, когда русскому командованию не удалось усилить 2-ю Тихоокеанскую эскадру З.П. Рожественского кораблями Черноморского флота (прежде всего из-за позиции Англии, настоявшей на неприкосновенности режима проливов), показали, что дальнейшее сохранение существующего положения вещей противоречит русским интересам.
Интерес к черноморской теме подогрела и нашумевшая статья П.Б. Струве «Великая Россия», напечатанная в январе 1908 года в «Русской Мысли». Касаясь внешнеполитического положения Российской империи, Струве утверждал, в частности, что дальнейшая русская экспансия на Дальнем Востоке и в Азии не имеет больших перспектив, поскольку не подкреплена культурным влиянием. По его мнению, Россия должна сосредоточить всю свою мощь на ином направлении.
«…Для создания Великой России, – писал Струве, – есть только один путь: направить все силы на ту область, которая действительно доступна реальному влиянию русской культуры. Эта область – весь бассейн Черного моря, то есть все европейские и азиатские страны, «выходящие» к Черному морю.
Здесь для нашего неоспоримого хозяйственного и экономического господства есть настоящий базис: люди, каменный уголь и железо. На этом реальном базисе – и только на нем – неустанной культурною работой, которая во всех направлениях должна быть поддержана государством, может быть создана экономически мощная Великая Россия…
Основой русской внешней политики должно быть, таким образом, экономическое господство России в бассейне Черного моря. Из такого господства само собой вытечет политическое и культурное преобладание России на всем так называемом Ближнем Востоке».
Младотурецкая революция придала новую остроту вопросу о проливах. В Петербурге многие были настроены на то, чтобы воспользоваться неопределенностью положения в Турции. Серьезно рассматривались планы вооруженного захвата проливов. Но по зрелому размышлению, на особом правительственном совещании с участием военных 3 августа 1908 года было признано, что в настоящее время «мы не готовы на какие-либо самостоятельные выступления, что дело вооруженного завладения Босфором приходится временно отложить и пока заняться разработкой подробного плана действий о мирном занятии Босфора без объявления войны Турции»38.
Следуя этой рекомендации, Извольский вступил в переписку с Эренталем, которая, в конце концов, и свела двух министров в замке Бухлау.
И вот они сидели напротив друг друга в Большом Рыцарском зале с высокими готическими сводами – двое немолодых уже мужчин с вполне мирной наружностью, готовые скрестить в дипломатическом турнире весь арсенал профессионального оружия – лесть, лживые обещания, скрытые угрозы.
Переговоры продолжались до вечера с перерывом в середине дня на завтрак и кратковременную прогулку в экипаже по окрестностям. Из соображений секретности решено было не вести стенограммы, а удовлетвориться устным, «джентльменским» соглашением. Впоследствии оба министра передавали суть состоявшейся между ними беседы с большими расхождениями. Со слов Извольского, «после весьма жаркого спора» состоялась полноценная сделка, где стороны взяли на себя твердые обязательства: Австрия получала Боснию и Герцеговину, Россия – согласие на пересмотр вопроса о Дарданеллах; оба вопроса должны были решиться на европейской конференции. Эренталь же утверждал, что никакого уговора не было, а имело место лишь обещание дружественной поддержки притязаний России на конференции, если таковая состоится. Попутно стороны согласились признать полную независимость Болгарии, формально все еще находившейся под турецким суверенитетом.
Расставшись с русским гостем, барон Эренталь тем же вечером выехал в Вену, а Извольский, переночевав в Бухлау, наутро отправился в дипломатическое турне по Европе с целью прощупать позицию ведущих держав. Очевидно, каждый из государственных мужей покинул замок в глубоком убеждении, что сумел навязать собеседнику свою точку зрения.
В последующие две недели настроение Извольского улучшалось день ото дня. В Германии и Италии у него состоялись две важные встречи – с Вильгельмом фон Шёном, статс-секретарем германского ведомства иностранных дел, и с итальянским министром иностранных дел Томмазо Титтони. Вопреки опасениям Извольского, ни тот, ни другой не возражали против изменения режима проливов в благоприятную для России сторону, оговорив, впрочем, необходимость соответствующих компенсаций для своих стран.
Тем временем от турецкого посла в Петербурге удалось добиться согласия на составление проекта русско-турецкого договора, одобряющего русскую формулировку о проливах. Николай II, которого Извольский наконец посвятил в ход своих переговоров с Эренталем, был чрезвычайно доволен результатами работы своего министра иностранных дел. «Это было решением векового вопроса», – несколько поспешно заявил он.
Дело оставалось за малым – получить одобрение Франции и Англии, союзников России по Антанте. Подчиненные Извольского в Петербурге получили указание подумать над тем, как лучше подготовить русское общественное мнение к тому обескураживающему факту, что Россия обеспечила свои интересы на Балканах за счет интересов «братской» Сербии.
С пьянящим чувством собственного величия Александр Петрович сел в парижский поезд. 4 октября, на станции Мо – одной из последних остановок перед французской столицей, – он вышел из вагона, чтобы купить свежие газеты, и не поверил своим глазам. Броские заголовки кричали о том, что Австро-Венгрия на днях объявит об аннексии Боснии и Герцеговины.
Оказалось, что Эренталь действовал, опираясь на свою трактовку исхода переговоров в Бухлау. Не отказываясь поддержать требования России на международной конференции, он, однако, не считал, что аннексия Боснии и Герцеговины должна быть жестко связана с созывом таковой конференции. Ему не стоило больших трудов убедить императора Франца-Иосифа поторопиться с присоединением турецко-сербских провинций.
Сделать официальное объявление о включении Боснии и Герцеговины в состав Австро-Венгрии было решено 7 октября. Австрийские послы в Германии, Петербурге, Англии, Франции и Италии получили предписание за день до назначенной даты вручить главам этих стран личные письма Франца-Иосифа с извещением о намерениях венского кабинета. Но французский президент Арман Фальер планировал провести 5 октября не в Париже, и тамошний австрийский посол, узнав об этом, сообщил ему о намеченной аннексии Боснии и Герцеговины несколько ранее предписанного срока – 3 октября. Фальер не счел нужным держать полученные сведения в секрете. Вот так и вышло, что на следующий день Извольский стал изумленным свидетелем обсуждения сенсационной новости во французской прессе.
Одновременно с аннексией Боснии и Герцеговины великий князь болгарский Фердинанд I Кобург объявил Болгарию независимой, а себя – «царем болгар». «Таким образом, на свете стало два царя: один царь русский, а другой – болгарский», – с меланхолической иронией прокомментировал эту новость Сергей Юльевич Витте.
С формальной стороны соглашение в Бухлау нарушено не было. Судя по всему, конкретные даты аннексии Боснии и Герцеговины на встрече русского и австрийского министров не обсуждались, а свои обещания насчет проливов Эренталь дезавуировать не собирался. Однако Извольский чувствовал себя обманутым, ибо теперь дело обстояло так, что австрийцы уже завладели своей частью добычи, а России предстояло еще много хлопот, чтобы получить причитавшуюся ей поживу. Более того, в случае созыва международной конференции нарушительницей Берлинского трактата фактически выступила бы одна Россия, так как действия Австрии и Болгарии по существу только закрепляли давно существующее положение.
После этого неприятности стали нарастать, как снежный ком. В Париже Извольского ждало новое разочарование. Французский министр иностранных дел Стефан Пишон в доверительной беседе выказал полное сочувствие русским планам. Однако официальную поддержку своей страны он обещал лишь в том случае, если Россия предварительно заручится согласием Англии.
Извольский устремился в Лондон. Он все еще надеялся на успех. Не далее как четыре месяца назад, в июне 1908 года, в Ревеле состоялось свидание Эдуарда VII с Николаем II. По его итогам было выпущено коммюнике, в котором сообщалось, что между Россией и Англией достигнуто полное согласие по всем международным проблемам. И действительно, британский монарх, верный духу Ревельских переговоров, убеждал министра иностранных дел Эдуарда Грея уступить Извольскому в вопросе о проливах. Но у Грея были свои соображения на этот счет. Он полагал, что если уж менять правовой режим проливов, то только в сторону их открытия для судов всех стран (фактически это означало, что в Черном море в любой момент мог появиться британский флот). Кроме того, младотурецкое правительство придерживалось тогда английской ориентации, и Грей боялся, что поддержка Англией русских требований толкнет Турцию в объятия Германии. Поэтому в Форин офис Извольского ждал решительный отказ. Напрасно он шантажировал Грея тем, что в случае провала своей миссии может быть заменен «реакционным» министром, который возьмет прогерманский курс; английский министр иностранных дел был неумолим, и Извольскому пришлось вернуться в Петербург с пустыми руками.
Дома его встретили неласково. Председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин и другие члены правительства узнали о переговорах в Бухлау из иностранных газет и были возмущены тем, что их не поставили заблаговременно в известность «о деле столь громадного исторического значения». На срочно собранном заседании они обрушились с резкой критикой на действия Извольского39.
Вслед за министрами вознегодовали русская пресса и Государственная дума. В обществе еще не успели остыть славянофильские настроения, вызванные многолюдным всеславянским конгрессом в Праге, который состоялся летом того же года. Газеты и думские деятели метали громы и молнии в Австро-Венгрию и недоумевали относительно позиции, занятой главой русского министерства иностранных дел.
Извольский преисполнился холодной ярости. Эренталь превратился в его личного врага и «не джентльмена», как Александр Петрович с тех пор характеризовал его в письмах.
Ненависть диктовала политику мщения.
Поскольку о проливах больше нечего было и думать, Извольский задумал вырвать из австрийского горла заглоченный кусок, или, в крайнем случае, добиться компенсаций для Сербии. Теперь он был не прочь облачиться в тогу бескорыстного защитника балканских славян.
Почувствовав поддержку России, сербы возвысили голос против захвата Австро-Венгрией славянских областей. В ответ правящие круги Австро-Венгрии начали открытые военные приготовления. 19 марта 1909 года Эренталь послал Сербии ультиматум с требованием признать аннексию Боснии и Герцеговины, отвести войска от австрийской границы и прекратить националистическую шумиху в прессе.
Четырьмя днями спустя германский посол в Петербурге Фридрих фон Пурталес от имени своего правительства заявил, что сближение России с Англией и Францией «заставляет Германию, более чем когда-либо, тесно сблизиться с Австрией и принять за основание своей политики полнейшую солидарность во всех вопросах с Габсбургской монархией». В ультимативной форме он потребовал у Извольского безусловного признания Россией австрийской аннексии Боснии и Герцеговины, не скрыв от русского министра инструкции, полученной от германского канцлера Бернгарда фон Бюлова: «…Мы ожидаем точного ответа – да или нет; всякий уклончивый, условный или неясный ответ мы будем рассматривать как отказ. Тогда мы устранимся и предоставим события их собственному течению…».
Итак, немецкие дипломаты и военные впервые официально «оптировали» (сделали выбор) в пользу Австрии, вопреки заветам Бисмарка, предостерегавшего своих преемников о недопустимости германского вмешательства в русско-австрийский конфликт в том случае, если Россия не является нападающей стороной. «Мы верны друг другу, как Нибелунги», – заявил фон Бюлов.
В тот же день Австро-Венгрия объявила «состояние тревоги» для двух корпусов, расположенных на границе с Сербией.
Дело явно пахло порохом, а Россия к войне не готова – таково было единодушное мнение Совета министров. Поневоле пришлось уступить грубому шантажу. Вечером 22 марта, после доклада Извольского, Николай II телеграфировал германскому кайзеру о том, что Россия принимает германские требования. Между тем своей матери государь писал: «Форма и прием германского правительства их обращения к нам грубы, и мы этого не забудем… Такие способы действия приведут скорее к обратным результатам».
В ответном послании Вильгельм II выразил Николаю благодарность за уступчивость: «Европа теперь избавлена от ужасов всеобщей войны».
31 марта сербский посол в Вене специальной нотой известил Эренталя, что Сербия снимает все свои претензии относительно аннексии Боснии и Герцеговины. Балканский фитиль, едва вспыхнув, погас.
Поражение России в Боснийском кризисе газеты окрестили «дипломатической Цусимой». Репутация Извольского была погребена под лавиной упреков, которые обрушились на него справа и слева. Его отставка стала делом времени40.
В отличие от своего незадачливого русского коллеги, барон Эренталь стяжал славу великого человека и графский титул. Через три года после окончания Боснийского кризиса он умер, гордый своими «бессмертными» историческими заслугами перед Габсбургской монархией. Ему не довелось узнать, что ближайшим следствием его блестящей «меттерниховской» политики стали Сараевское убийство, европейская бойня и крушение Австро-Венгерской империи.
XIII
В начале 1909 года на прилавки книжных магазинов Лондона поступил антивоенный памфлет под невразумительным названием «Европейский обман зрения» (Europe's Optical Illusion). Небольшой тираж был отпечатан в заштатном издательстве, на средства автора – главного редактора парижского издания «Дейли мейл» Ральфа Нормана Энджелла Лейна, скрывшегося за псевдонимом «Норман Энджелл». Стостраничная брошюра представляла собой сокращенный вариант более обширного сочинения Энджелла, для которого не нашлось ни одного заинтересованного издателя. Автору – невысокому сухощавому джентльмену с гладко зачесанными назад жидкими волосами на крупной голове и глазами идеалиста – пророчили полный провал или в лучшем случае сомнительную славу непонятого чудака. Публикация «Европейского обмана зрения», казалось, подтвердила правоту скептиков. Немногие газетные рецензенты удостоили труд Энджелла своим вниманием, впрочем, не простиравшимся далее кратких формальных сообщений, тут же растворившихся в океане новостей книжного рынка.
Смирившись с неудачей, Энджелл в качестве прощального жеста разослал экземпляры брошюры двум или трем сотням избранных общественных деятелей в Британии, во Франции и в Германии.
Поначалу это ничего не изменило. Но вдруг спустя несколько месяцев о «Европейском обмане зрения» заговорили – на страницах английской и американской прессы, в кабинете министров Великобритании, в королевском дворце и на дипломатических приемах. Дополнительные тиражи стали исчисляться десятками тысяч, так что в 1910 году Энджелл уже смог издать полную версию своей книги, получившую название «Великое заблуждение: Очерк о мнимых выгодах военной мощи наций».
Это было далеко не первое его выступление с идеями пацифизма. Энджелл и прежде горячо протестовал против войны англичан с бурами и против американцев, захвативших остатки испанской империи. Однако он видел, что простого нравственного обличения милитаризма недостаточно. Для излечения человечества от империалистического безумия нужны более сильные, рациональные доводы, способные радикально изменить сам подход к вопросам войны и мира. И в «Великом заблуждении» проблема войны предстала в совершенно новом свете.
Вся книга, от первой до последней страницы, была посвящена суровой критике многовековой политической мудрости, согласно которой внешние захваты являются непременным условием процветания государства. Война между европейскими нациями по-прежнему возможна, утверждал Энджелл, но абсолютно бессмысленна. В XX столетии мир стал иным. Стремление правительств развязать войну в надежде извлечь из завоеваний выгоду – это великое заблуждение политического мышления. Эпоха «выгодных» войн закончилась. Мировая экономика связала страны тысячами нитей, обрыв которых принесет победителю потери отнюдь не меньшие, чем побежденному. Территориальные захваты больше не способствуют обогащению, ибо богатство завоеванной территории все равно остается в руках местного населения, иначе его эксплуатация становится экономически бесперспективной. Таким образом, завоевание в современном мире – это процесс умножения на икс, а затем получение исходной фигуры путем деления на икс. Поэтому даже если война начнется, правительства, промышленники и банкиры добьются скорейшего ее прекращения. Лучшее лекарство от всеобщей войны – сокращение военных расходов, развитие международной торговли и кредита.
Книга Энджелла мгновенно стала мировым бестселлером. Рецензии на нее появлялись сотнями, не только в Британии и на европейском континенте, но и в США. «Великое заблуждение» было переведено на 25 языков, включая русский, арабский, турецкий, японский и несколько языков Индии, а тираж за полтора года превысил два миллиона экземпляров. Король Эдуард VII, вообще редко читавший что-то, кроме официальных бумаг, дарил экземпляры книги Энджелла своим министрам. Его влиятельный советник и близкий друг лорд Эшер41 выступал перед студентами Кембриджа и высокопоставленными военными с речами и лекциями о «Великом заблуждении», уверяя, что ввиду взаимного переплетения интересов наций вероятность войны уменьшается с каждым днем. В Британии не осталось университета, где бы не появилось группы убежденных приверженцев книги Энджелла. При этом заложенные в ней идеи претерпели странное, хотя и объяснимое искажение. Доказательства катастрофической разрушительности будущей войны для всей мировой экономики приняли за неоспоримое обоснование ее полной невозможности42.
Однако среди современников Энджелла были и такие люди, которые смотрели на вещи иначе.
В то самое время, когда «Великое заблуждение» начало свое триумфальное шествие по миру, отставной кавалерийский генерал и военный историк Фридрих фон Бернгарди сел за написание книги «Германия и будущая война», увидевшей свет в 1912 году. По своим идеям это был полный антипод энджелловского бестселлера, что не помешало ему также снискать ошеломительный успех.
Эпиграфом к своей книге генерал Бернгарди взял слова рядового ветерана франко-прусской войны Фридриха Ницше: «Война необходима. Только мечтательность и прекраснодушие могут ожидать от человечества еще многого, – когда оно разучится вести войны» («Человеческое, слишком человеческое»). Сам он тоже отлично знал, как кружит голову пьянящий воздух победы. 17 февраля 1871 года двадцатилетним гусаром Бернгарди возглавил парадную колонну германских войск, вступивших в Париж, и таким образом стал первым немцем, прошедшим торжественным маршем под Триумфальной аркой. С тех пор ему пришлось с горечью наблюдать, как его соотечественники десятилетие за десятилетием теряют свою былую воинственность и превращаются в нацию сытых мещан. Поклонник книги Клауса Вагнера «Война как творческое начало мира», Бернгарди считал, что отмена войн привела бы к упадку цивилизации и деградации человечества, ибо тогда «низшие или деморализованные расы смогут легко подчинить себе здоровые расы».
Война – это прежде всего «биологическая необходимость» и выполнение «естественного закона» борьбы за существование, настаивал генерал – пожилой коренастый крепыш, счастливый обладатель пышных усов и отменного здоровья. Государства и нации не могут раз навсегда обеспечить себе державный статус, они призваны или постоянно наливаться мощью, или в конце концов сойти с исторической сцены. Девизом германского народа должно стать: «Мировое господство или гибель». По своему культурному развитию Германская империя стоит во главе человечества, но «зажата в узких, неестественных границах». Поэтому война для нее – всего лишь простая реализация права на существование. «Наши политические задачи не выполнимы и не разрешимы без меча». Без создания великой колониальной империи германская нация не сможет обеспечить свое благосостояние. Историческими врагами Германии являются Британия, Франция и Россия. Немцы должны ударить первыми и не останавливаться ни перед чем ради достижения победы. Цель войны состоит в том, чтобы вырвать мировое лидерство из рук англичан и навсегда исключить Францию и Российскую империю из числа великих держав.
Книга «Германия и будущая война» получила широкую известность не только в Германии, но и за ее пределами (русский перевод вышел в том же году под названием «Современная война»). К 1914 году труд Бернгарди выдержал 9 изданий. Залпы «августовских пушек»43 стали фанфарами ее всемирной славы.
XIV
1910 год привнес некоторое успокоение в отношения великих держав. Смерть короля Эдуарда VII, случившаяся в мае, на короткое время сблизила все монархические дворы Европы. На пышной похоронной церемонии в Виндзоре присутствовали девять монархов, в числе которых был германский кайзер. Он так артистически демонстрировал свой траур, что толпа на улицах выкрикивала приветствия в его честь. Из России прибыла вдовствующая императрица Мария Федоровна, сестра вдовствующей королевы Великобритании Александры. Америку представлял ее действующий президент Теодор Рузвельт. Принцев, дипломатов, государственных сановников из разных стран было не счесть. В почетном карауле вдоль дороги, по которой следовала процессия с королевским гробом, стояли 35 тысяч солдат. За их спинами толпились сотни тысяч простых англичан в черных одеждах, со склоненными головами. В воздухе стояла ничем не нарушаемая, неправдоподобная тишина.



