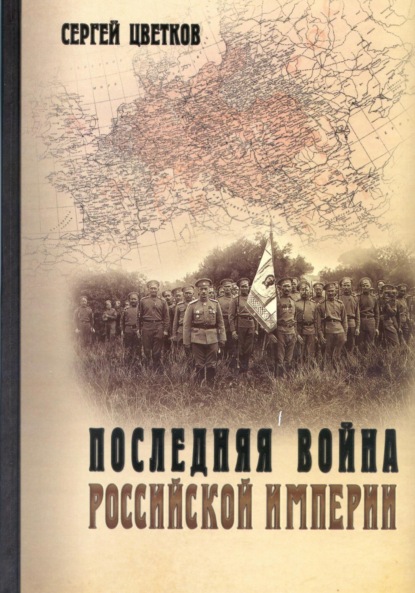
Полная версия:
Последняя война Российской империи
Автором его был генерал граф Альфред фон Шлиффен, с 1891 по 1906 год возглавлявший германский Генштаб. Углубленно занимаясь военной историей, он с юных лет был очарован битвой при Каннах (216 год до н. э.), которую до конца жизни считал высшим образцом военного искусства. Его увлекала красота замысла Ганнибала – двойной фланговый охват громадного римского каре, приведший практически к полному истреблению окруженных легионов. Детальное изучение знаменитого сражения привело Шлиффена к убеждению, что «фланговая атака является сутью всей истории войн».
До того момента, когда Шлиффен встал во главе Генерального штаба, германская военная мысль жила заветами фельдмаршала Хельмута фон Мольтке-старшего или великого Мольтке, отца блестящих побед прусской армии в войнах с Австро-Венгрией (1866) и Францией (1870—1871). Сформулированная им военная доктрина исходила из того факта, что в будущей войне Германии придется иметь дело уже не с одним, а с двумя противниками – Францией и Россией. Войну на два фронта Мольтке-старший считал губительной для Германии, поэтому при нем Генеральный штаб сосредоточил свои усилия на выработке стратегии поочередного разгрома союзников. Важнее всего здесь было не прогадать с направлением главного удара. Поскольку Франция, жившая в страхе перед новым германским нападением, превратила свою восточную границу в сплошную цепь неприступных крепостей, Мольтке-старший пришел к заключению, что Германии следует ограничиться на западе обороной, а основные силы немецкой армии сосредоточить против Российской империи. Тогда еще считалось, что «необозримые просторы России не представляют для Германии жизненно важного интереса». Поэтому разгром русской армии планировалось осуществить в приграничных областях и закончить войну захватом русской части Польши. После этого, перебросив войска на запад, можно было приступать к наступательным операциям против Франции.
Шлиффен отказался от доктрины своего легендарного предшественника, удержав из нее только наполеоновскую идею «Vernichtungs-Strategie» – «стратегии уничтожения» противника. В отличие от Мольтке, предсказывавшего, что будущая война может длиться годами и даже десятилетиями, он полагал, что ограниченные финансовые ресурсы Германии и большая зависимость германской экономики от сырьевого экспорта не позволят ей вести затяжную войну. «Стратегия измора, – писал он, – немыслима, когда содержание миллионов вооруженных людей требует миллиардных расходов».
Фактор времени стал решающим в его стратегических выкладках. К началу ХХ века Германия имела прекрасно развитую сеть современных железных дорог, благодаря чему могла провести мобилизацию и сосредоточение войск как на востоке, так и на западе буквально за несколько дней. Важность железнодорожных путей сообщения осознала и Франция, которая, занимаясь усиленным железнодорожным строительством, сумела уравнять сроки мобилизации своей армии с германской. Но в России плотность железнодорожной сети в западных и центральных областях была намного ниже, чем в Германии и даже в Австро-Венгрии. К тому же из-за огромной протяженности Российской империи русский Генштаб вынужден был планировать переброску войск на расстояние в несколько раз превышавшее то, которое предстояло преодолеть германским военным частям согласно мобилизационному предписанию. По расчетам германского Генштаба, полная мобилизация русской армии должна была занять от 40 до 50 дней. Следовательно, на первом этапе войны можно было не отвлекаться на русский фронт, а бросить все ударные силы против Франции.
Фронтальный прорыв сквозь первоклассные французские крепости Шлиффен считал напрасной тратой времени и сил. Повторение Седана29 в начале ХХ века было уже невозможно. Между тем французскую армию нужно было уничтожить одним могучим ударом. И тут Шлиффен предлагал использовать опыт Канн. «Бой на уничтожение, – писал он, – может быть дан и ныне по плану Ганнибала, составленному в незапамятные времена. Неприятельский фронт не является объектом главной атаки. Существенно не сосредоточение главных сил и резервов против неприятельского фронта, а нажим на фланги. Фланговая атака должна быть направлена не только на одну крайнюю точку фронта, а должна захватывать всю глубину расположения противника. Уничтожение является законченным лишь после атаки неприятельского тыла».
Задуманный им план не был слепым копированием схемы битвы при Каннах. Шлиффен хотел окружить французов, но не путем двойного охвата, а посредством мощного прорыва одного правого фланга германской армии. Для этого он максимально ослаблял линию войск на левом фланге, протянувшемся вдоль германо-французской границы, на охрану которой выделялось всего 8 дивизий, и сосредоточивал ударный кулак из 53 дивизий против Бельгии и Люксембурга. В тылу у этих стран не было непреодолимой цепи французских крепостей. Единственной крепостью на пути правого фланга германской армии был «вечный» нейтралитет Бельгии, гарантированный в 1839 году Англией, Францией, Россией, Австро-Венгрией самой Германией (тогда еще Пруссией). Шлиффен смотрел на дело с чисто военной точки зрения, не принимая в расчет политических соображений. Нейтральный статус Бельгии не имел в его глазах никакой силы. Согласно его плану, с началом войны главным силам немецкой армии надлежало сразу же вторгнуться в Люксембург и Бельгию, пройти их насквозь, затем, осуществив по широкой дуге заходной маневр, охватить Париж с юго-запада и прижать французские войска к левому флангу немецкой армии.
Если бы во время победного марша германского крыла захождения французская армия бросилась всеми силами на ослабленный левый фланг немцев, то получился бы эффект вращающейся двери: чем сильнее вы толкаете такую дверь вперед, тем больнее она бьет вас по спине и затылку. Немецкий правый фланг, пройдясь по тылам противника, уничтожил бы французскую армию на полях Эльзаса и Лотарингии.
Вся операция против Франции – грандиозные «Канны ХХ века» – была рассчитана с чисто немецкой пунктуальностью, буквально по часам. На окружение и разгром французской армии отводилось ровно шесть недель. После этого следовало перебросить немецкие корпуса на восток.
Шлиффен сознательно жертвовал на начальном этапе войны Восточной Пруссией. Расположенные там 10 немецких дивизий не могли выдержать напора русского «парового катка», который, как ожидалось, пришел бы в движение спустя четыре-пять недель после начала мобилизации30. Основную тяжесть противостояния русской армии пришлось бы взять на себя 30-ти австрийским дивизиям, развернутым в Галиции и южных областях русской Польши. Но спустя неделю после победы над Францией полмиллиона германских солдат, прибывших с западного фронта, должны были сокрушить русскую мощь и закончить войну на континенте, – спустя восемь-десять недель после ее начала.
Действенность «плана Шлиффена» целиком зависела от четкости выполнения каждой дивизией, каждым полком и батальоном разработанного для них графика развертывания и концентрации. Любая задержка грозила проигрышем всего дела. И Шлиффен с маниакальной страстью предавался детализации своего замысла, пытаясь предусмотреть любые обстоятельства. Порой он производил впечатление безумца. Однажды, во время инспекционной поездки штаба по Восточной Пруссии, адъютант Шлиффена обратил внимание своего шефа на живописный вид видневшейся вдали реки Прегель. Генерал, бросив короткий взгляд в том направлении, куда указывал офицер, пробормотал: «Незначительное препятствие». Говорили, что перед смертью, последовавшей в 1912 году, он страшно беспокоился о судьбе своего детища. Последними его словами на смертном одре были: «Не ослабляйте правый фланг».
Впоследствии выяснилось, что «план Шлиффена» не был свободен от крупных недостатков. К их числу относились пренебрежение нейтралитетом Бельгии, что толкало Англию в стан противников Германии, и недооценка масштаба участия Англии в сухопутной войне. Предполагалось, что англичане высадят в Бельгии 100-тысячный экспедиционный корпус, а германский правый фланг сможет «сбросить англичан в море, не прерывая нашего наступления и не оттягивая сроки завершения операции».
И тем не менее, военная доктрина Шлиффена, сделавшаяся святыней Генштаба, оказала могучее психологическое воздействие на целое поколение германских политиков и военных. Она принесла им освобождение от страха перед «окружением» и войной на два фронта. Вильгельм и правящая верхушка Германии твердо усвоили: десять недель энергичных усилий – и все враги будут повержены.
XI
Английской внешней политикой с 1901 по 1910 год руководил король Эдуард VII. Когда в начале столетия он вступил на престол, ему шел уже шестидесятый год. Эдуарда называли «Дядей Европы» – имея в виду его родственные связи почти со всеми европейскими монархическими домами. По разным линиям его племянниками и племянницами были кайзер Вильгельм, который обращался к нему «дядя Берти», дочь императора Александра II, великая княгиня Мария Александровна, царь Николай II и царица Александра Федоровна, румынская королева Мария и испанская королева Виктория Евгения. Младшая дочь Эдуарда Мод носила норвежскую корону.
Королева Виктория ревниво отстраняла старшего сына от малейшего участия в делах управления. Поэтому наследник британской короны до своего восшествия на престол был известен широкой публике в основном как герой великосветской и клубной хроники, любитель путешествий, скачек и элегантных костюмов. После воцарения вполне раскрылись и другие качества Эдуарда – глубокий и гибкий ум, прекрасное политическое чутье, дипломатическая сноровка. Пригодились и его светские навыки, благодаря которым однажды ему удалось совершить невозможное: рассмешить на балу «царевну Несмеяну» – супругу русского царя.
В первые годы правления Эдуарда подданные короля, а с ними и жители континентальной Европы, с изумлением наблюдали за тем, как английский государь впервые со времен Стюартов руководил английской политикой. Он совершал церемониальные въезды в столицы великих держав, заключал союзы и соглашения, отдавал распоряжения Форин офис и другим министерствам. Потом к такому порядку вещей привыкли. Самые разные люди – от консерваторов до социалистов – признали Эдуарда истинным вождем английского народа. Лидер рабочей партии Джеймс Кейр Харди заявлял: «Я республиканец, но, когда у нас будет республика, я буду агитировать за выборы Эдуарда VII в президенты».
Эдуард угрюмо взирал на растущую мощь Германии. По мнению канцлера Бюлова, «могучее развитие германской промышленности, торговли и флота возбуждало в короле те же самые чувства, которые испытывает владелец большой старинной банковской фирмы, когда перед ним вырастает молодой, менее родовитый, несимпатичный ему и очень деятельный конкурент». К политическим соображениям Эдуард присоединял и личную неприязнь к Вильгельму II.
Позорная для британской армии англо-бурская война посеяла в короле убеждение в том, что его империя в одиночку больше не способна защитить свои интересы на европейском континенте и в колониях. В течение девяти лет его правления Англия покончила с политикой «блестящей изоляции», которой она придерживалась предыдущие полвека, и заключила союз с двумя своими старыми врагами – Францией и Россией.
Для этого, правда, пришлось многим пожертвовать. Но король убедил правительство и парламент пойти на это.
Вслед за подписанием в 1904 году союзного договора с Францией Эдуард начал прощупывать почву для привлечения к «союзу сердечного согласия» России.
Сделать это было чрезвычайно трудно. Эдуарду пришлось идти против вековых стереотипов политического мышления. Правительственные круги, пресса и общество в каждой из стран совершенно искренне считали Англию и Россию «историческими врагами». Неудержимое расширение Российской империи на юг и юго-восток воспринималось в Лондоне как прямая угроза английскому господству в Индии. Либеральные английские политики видели в России страну кнута, погромов и казней, а в последних русских царях – «варвара, азиата, тирана» (отзыв королевы Виктории об Александре III) и «убийцу», как назвал Николая II вождь лейбористов Рамсей Макдональд. В России к владычице морей тоже не питали теплых чувств. По общему мнению, англичанка гадила31 где могла, препятствуя водружению православного креста над Святой Софией и русскому проникновению на Дальний Восток. Лондонская биржа почиталась опорой еврейского капитала, и Николай II однажды презрительно заметил, что не видит разницы между «жидами» и англичанами.
Ситуация начала меняться после русско-японской войны. Поражение России на Дальнем Востоке убедило Эдуарда в том, что Англия может не бояться русской экспансии в Азии. В то же время на своей западной границе Россия сохранила в неприкосновенности боеспособную армию, способную создать крупные неприятности Германии. По оценкам британских и французских военных, «русский паровой каток» мог сыграть решающую роль в случае возникновения европейской войны.
Англо-германские отношения между тем продолжали стремительно ухудшаться.
Германская морская программа вызвала в английских правящих кругах нешуточную тревогу. Англичане попытались оторваться от опасного соперника за счет строительства линейных кораблей нового класса.
В начале 1906 года на королевской верфи в Портсмуте был торжественно спущен на воду броненосец «Дредноут» (от англ. dreadnought – «неустрашимый») – чудо морского кораблестроения. На пышной церемонии присутствовала вся правительственная верхушка Британской империи – король, высшие военные и гражданские чины, главы парламентских партий.
Новый броненосный левиафан поражал воображение. Английские газеты взахлеб писали о его чудовищных размерах, непревзойденной прочности брони, великолепной скорости и неслыханной огневой мощи. «Дредноут» на равных мог вести бой с двумя-тремя броненосцами предшествующего типа. С его вводом в строй, казалось, открывается новая эра, в которой Англии было обеспечено безоговорочное морское господство.
Однако уже в июне 1906 года на верфи в Вильгельмсгафене был заложен «Нассау» – головной корабль первой серии германских дредноутов. Случилось непредвиденное британским морским министерством: теперь гонка морских вооружений между Германией и Великобританией начиналась как бы с «чистого листа», поскольку дредноуты почти сводили к нулю значение прежних броненосцев.
Эти события ускорили заключение соглашения с Россией. Тайные англо-русские переговоры начались в том же 1906 году. Следующей весной состоялся визит русского флота в Портсмут – по замыслу Эдуарда это должно было изменить общественное мнение англичан в пользу союза с Россией. Король пригласил русских офицеров в Лондон, где их ждала теплая встреча. На спектакле, данном в их честь, присутствовал лондонский бомонд и некоторые члены правительства.
31 августа 1907 года было подписано англо-русское соглашение. Стороны демонстрировали дружелюбие и полное понимание интересов друг друга. Россия согласилась признать Афганистан находящимся «вне сферы русского влияния»; она обязывалась также воздержаться от любого вмешательства в тибетские дела. Взамен Англия предложила фактический раздел Персии, причем России отходила северная, самая богатая часть этой страны.
Сделка с Британией, выглядевшая как явный дипломатический успех России, произвела во всем мире сильнейшее впечатление. Газеты Германии, Австрии, Италии, Франции утверждали, что русские с избытком возместили все свои потери на Дальнем Востоке.
Антанта теперь стала называться также Тройственным согласием (triple Entente).
С этих пор проводимая Эдуардом VII «Einkreisungspolitik» («политика окружения») уже не сходила со страниц немецких газет. Впоследствии Вильгельм именно Эдуарду отводил роль главного виновника войны. Для германского кайзера «дядя Берти» был настоящим «сатаной», увлекшим Германию в пучину военного краха. «Роковым для Германии был тот факт, – писал он в мемуарах, – что наше ведомство иностранных дел не сумело противопоставить английской политике окружения и хитростям России и Франции равного по достоинству дипломатического искусства…».
Капитан Керпер, германский военно-морской атташе в Лондоне, доносил в Берлин, что военно-морское соперничество стало главным фактором, осложняющим англо-германские отношения.
Ускоренными темпами продвигая свою морскую программу, Германия уже в 1908 году имела 7 дредноутов против 8 британских. Морское превосходство Англии таяло буквально на глазах.
Это вызвало настоящую истерию в Лондоне. Генерал Баден-Пауэлл (известный также как основатель скаутского движения) заявил, что страна находится на пороге немецкого вторжения. Глава военно-морских сил Британии адмирал Джон Фишер призвал нанести превентивный удар по немецкому флоту, – «копенгагировать» его (истребить без объявления войны), как Нельсон сделал с датским флотом в копенгагенской бухте32.
Эдуард все-таки предпочел путь переговоров. В конце лета 1908 года он лично встретился в Германии со своим племянником. Усилия королевской дипломатии ни к чему не привели. Вильгельм настаивал на том, что немецкий флот предназначен для защиты законных интересов Германии – и в общем, его аргумент трудно было опровергнуть.
Это была последняя попытка Англии убедить кайзера отказаться от строительства флота. После возвращения Эдуарда в Лондон английское правительство приняло решение на строительство каждого дредноута в Германии отвечать вводом в строй двух таких же кораблей.
Англо-германские переговоры велись в то время, когда Вильгельм находился на грани нервного срыва. В 1908 году скандал следовал за скандалом. Судебному преследованию подвергся ряд лиц из его ближайшего окружения, которых подозревали в гомосексуальных связях. Обвинительного приговора удалось избежать, но, чтобы не скомпрометировать свое имя, Вильгельм вынужден был навсегда расстаться со своими лучшими друзьями. Затем рейхстаг, возмущенный одним неловким пассажем из интервью кайзера «Дейли телеграф», запретил ему высказываться на тему международных отношений. Канцлер Бюлов, встав на сторону депутатов, фактически предал Вильгельма. И в довершение всего глава военного кабинета генерал Дитрих фон Гюльзен-Хесслер умер прямо на глазах у кайзера, в разгар веселых дурачеств на дворцовой вечеринке.
Все эти события поразили Вильгельма до глубины души и стоили ему седых волос. Придворные и министры жаловались, что с ним трудно стало общаться. Некоторое время кайзер даже подумывал об отречении, но в конце концов ограничился тем, что отправил в отставку Бюлова, заменив его Бетманом-Гольвегом.
Бюлов оставил своему преемнику нечто вроде политического завещания: «Мы теперь в качестве морской державы уже настолько сильны, что даже для Англии было бы небезопасно без нужды с нами связываться… Всякий серьезный конфликт был бы для нас борьбой не на живот, а на смерть, причем мы поставим на карту огромные ценности. От войны мы ничего не выиграем. Насильственное присоединение датчан, швейцарцев, голландцев или бельгийцев только дураку могло бы прийти в голову. Расширение империи на восток было бы не менее рискованно. У нас уже достаточно поляков… Нам не следует форсировать наше судостроение!.. Франция была и останется элементом беспокойства… Если Франция откажется от этих неестественно тяжелых вооружений, видя, что в военном отношении нас все равно нельзя опередить, то тогда будет создана возможность для продолжительного мира… Другая политика была бы возможна лишь в том случае, если бы мы хотели превентивной войны, но такая война была бы преступлением, потому что… время работает на нас».
Новый канцлер – исполнительный бюрократ, и сам любивший менторским тоном изрекать поучения, – меньше всего нуждался в посторонних советах. Он не был сторонником войны, хотя не исключал из своего дипломатического арсенала шантаж, давление и угрозы. Но между ним и кайзером не возникло доверительных отношений. В 1909 году Вильгельм как будто потерял опору под ногами. С этого времени, по многочисленным свидетельствам современников, военная партия при дворе значительно усилила свое влияние, тогда как кайзер все больше утрачивал самостоятельный взгляд на вещи.
XII
В середине сентября 1908 года внимание русской и европейской прессы вновь было приковано к Берлину, где 17-го числа должен был начать работу межпарламентский конгресс в защиту мира. Накануне в германскую столицу прибыло 920 делегатов из всех конституционных стран Старого и Нового света. Среди них были выдающиеся политические деятели, ученые, министры, сенаторы, профессора, публицисты. Председатель американской группы поднес германской от имени парламента Соединенных Штатов роскошное знамя с надписью «Мир на земле». Вечером 16-го в рейхстаге было назначено чествование съехавшихся делегатов, на которое были приглашены представители иностранной и местной печати.
А утром того же дня, в старинном моравском замке Бухлау33, живописно возвышающемся на узком гребне поросшей березняком горы, состоялась встреча австрийского и русского министров иностранных дел. Переговоры проходили в обстановке абсолютной секретности, на них не были допущены не только журналисты, но даже другие лица из дипломатических корпусов обеих стран. Более того, в полном неведении о действиях своих министров пребывали императоры – дряхлевший Франц-Иосиф I и Николай II, находившийся на пике возраста акме34. Это не значило, впрочем, что Эренталь и Извольский шли против воли своих государей – наоборот, они надеялись, что предугадывают ее.
Замок Бухлау принадлежал австрийскому послу в Петербурге графу Леопольду фон Берхтольду, который любезно предоставил его для свидания высокопоставленных гостей.
С давних времен одной из главных достопримечательностей замка была Черная Пани – привидение жены одного из прежних его владельцев. Но 16 сентября 1908 года эту даму в замке никто не видел. Вместо нее по полутемным коридорам, увешанным фамильными портретами, бродила другая тень – призрак большой европейской войны.
Дело напрямую касалось раздела наследства «первого больного человека Европы», как на дипломатическом языке того времени называлась Османская империя. «Вторым больным» считалась сама Австро-Венгерская монархия, и она хотела поправить свое здоровье за счет безнадежного соседа.
Возглавлявший австрийскую внешнюю политику барон Алоиз фон Эренталь намеревался вести большую игру. Страсть к крупным сделкам, видимо, была у него в крови. По слухам, среди его предков числился некий Лекса – удачливый торговец зерном, в 1828 году облагороженный фамилией Эренталь (Aehrenthal, дословно «долина злаков») и баронским титулом, но так и не сбривший пейсы. Отец Алоиза возглавлял солидный банк.
Сын этих почтенных людей, смолоду избравший дипломатическое поприще, не прочь был разыграть роль нового Меттерниха35. В основе европейской политики, по его убеждению, должна была лежать монархическая солидарность против революции. К сожалению, с одной из монархий – российской – у Австрии имелись взаимоисключающие интересы на Балканах. Дабы уладить эти разногласия, в 1903 году, на встрече Николая II с Францем-Иосифом в Мюрцштеге, обе стороны заявили об отказе от намерения каким-либо образом изменить здесь status quo.
Барон Эренталь до своего назначения в 1906 году министром иностранных дел семь лет провел в Петербурге, исполняя обязанности посла. Во многом благодаря ему Австрия заняла по отношению к России дружественную позицию во время русско-японской войны и революционной смуты 1905—1907 годов. В высших дворцовых сферах Эренталь был «Persona Gratissima», за ним закрепилась репутация «русофила». Несмотря на это именно он выступил могильщиком австро-русского соглашения.
Барон непременно хотел войти в историю человеком, прирастившим Австро-Венгерскую империю новыми землями. Благо за державой Габсбургов были давно «забронированы» две провинции – Босния и Герцеговина. Австрийцы заняли их согласно XXV статье Берлинского трактата 1878 года. С тех пор эти территории находились во «временной оккупации» Австрии, формально оставаясь в составе Османской империи.
Изначально было понятно, что Австрия добровольно не выпустит из рук захваченную добычу. Но для официального признания за ней новых приобретений требовалось коренное изменение международной обстановки. Такой момент наступил в июле 1908 года, когда в Турции произошел государственный переворот. Старый султан Абдул-Гамид II был отрешен от управления, и власть на следующие десять лет перешла к правительству младотурок – либеральных националистов, ядро которых составляли молодые офицеры, члены тайного общества «Единение и прогресс». Они хотели европеизировать Турцию и воссоздать единство страны на началах строгой централизации. Однако часы Османской империи были уже сочтены, и действия младотурок только ускорили распад некогда могущественного государства.
Новое турецкое правительство объявило о своем намерении провести выборы во всех областях Османской империи, включая Боснию и Герцеговину, где немедленно оживились националистические настроения. Это обстоятельство побудило Эренталя предпринять решительные меры по превращению «временной оккупации» в вечное владение.



