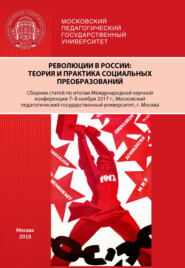 Полная версия
Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований
Солидаризируясь с руководителем страны, отметившим: «Разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути, не ценой разрушения государственности, беспощадного слома миллионов человеческих судеб, а путем постепенного, последовательного движения вперед?»383, мы вправе сказать, что потери страны от революции и гражданской войны были слишком дорогой платой за ускорение социальных реформ в отдельных сферах, поскольку все это было бы возможно и в рамках Российской империи при условии реализации соответствующих планов, только несколько позднее, и этот процесс не был бы столь форсированным.
Эволюция меньшевизма в 1917 г.: к постановке вопроса
Чураков Д.О.
Аннотация. Юбилей Великой Русской революции 1917 г. актуализировал в отечественной исторической науке проблему развития в нашей стране многопартийной политической системы и партийного строительства. Революция дала возможность заявить о себе различным политическим партиям, в том числе социал-демократической ориентации. В российской действительности в тот период развивалось несколько социал-демократических течений, важнейшими из которых являлись большевики и меньшевики. Если о большевиках в литературе прочно закрепилось представление как о радикальной, левой политической силе, то их оппоненты внутри российской социал-демократии – меньшевики – традиционно воспринимаются как правое, умеренное, реформистское направление. В статье ставится вопрос о том, что подобный одномерный подход к меньшевикам уже не достаточен. Внутри меньшевизма существовало несколько влиятельных групп, часть из которых стремилась уловить настроения страны и революционного народа. Однако реалистам внутри меньшевизма не удалось закрепить тенденции к полевению партии в качестве основной стратегии ее эволюции, что стало важной причиной исторического поражения меньшевиков в условиях революционного кризиса.
Ключевые слова: революция, меньшевизм, большевизм, социализм, политический радикализм, Учредительное собрание, правительственная коалиция, советы.
THE EVOLUTION OF MENSHEVISM IN 1917: TO THE FORMULATION OF THE QUESTION
Churakov D.O.
Abstract. The history of the Great Russian revolution of 1917 actualized in the domestic historical science development in our country a multiparty political system and party building. The revolution gave the opportunity to Express themselves in various political parties, including the social-democratic orientation. In the Russian reality during that period there were several social democratic movements, the most important of which were the Bolsheviks and the Mensheviks. If the Bolsheviks in the literature is firmly entrenched, the idea of radical left political force, their opponents within the Russian social democracy – the Mensheviks – are traditionally seen as right, moderate, reformist direction. The article raises the question of what such a one-dimensional approach to the Mensheviks already not sufficient. Inside of the Mensheviks there were several influential groups, some of which sought to capture the mood of the country and the revolutionary people. However, the realist inside of the Mensheviks failed to consolidate the tendency to shift to the left of the party as the main strategy of its evolution that has become a major cause of the historic defeat of the Mensheviks in conditions of revolutionary crisis.
Keywords: Revolution, Menshevism, Bolshevism, socialism, political radicalism, the Constituent Assembly, the coalition government tips.
Нынешний год стал годом, когда отмечается сразу несколько юбилеев, связанных со столетием Великой Русской революции 1917 г. Недавно были отмечены юбилеи февральских событий в Петрограде, апрельской конференции большевиков, появления ноты Милюкова и последовавшего за ним кризиса Временного правительства. Наконец, позади юбилей создания в России коалиционного правительства, в которое, помимо 10 «министров-капиталистов», впервые в отечественной истории вошли представители правого крыла социалистического движения. Как показала история, ничего результативного из этого не получилось. Кризис не только не был преодолен, но и усугубился. И вот в эти дни отмечается следующий юбилей – столетие Красного Октября, который подвел черту под периодом, когда у власти в России находились представители умеренных социалистов, так и не сумевших ничего сделать ни для своих сторонников, ни вообще для страны.
Закономерность такого исхода попыток правых социалистов сотрудничать со своими оппонентами из торгово-промышленного, говоря языком того времени, лагеря очевидна. В этом смысле роль умеренных социалистов в обострении гражданской войны в России – тема особого, глубокого разговора. Сегодняшняя наша задача хотя бы коротко остановиться на других закономерностях, определивших лицо событий того памятного года.
В наши дни в обществе существует множество различных оценок революции 1917 г. и ее развития: от весьма положительных до катастрофически отрицательных. Историки обращаются к изучению самых разнообразных течений революционного времени: от крайне правых до крайне левых, не обходят они стороной и меньшевиков384. И это закономерно для такого противоречивого времени, как наше сегодняшнее. Но мало кто, даже среди нынешних критиков революции 1917 г., всерьез утверждает тезис о ее случайном характере. Закономерность революции постепенно становится общепризнанным компонентом любой, положительной или негативной, оценки Октября и предшествующих ему этапов развития революции.
И это тоже не случайно. Методы сегодняшней науки позволяют значительно глубже посмотреть на причины и предпосылки революции 1917 г. Сегодня, помимо называвшихся всегда таких ее причин, как война, постепенно усиливающейся в стране государственно-капиталистический уклад, рост классового противоборства, бессилие властей можно говорить и о других, не менее глубинных причинах.
Речь идет о вызревании в обществе коллективистских форм отношений в процессе производства. Во-первых, сегодня можно более комплексно, чем прежде, проанализировать развитие рабочего движения в 1917 г. Если сам Ленин оценивал рабочий контроль над производством только как предпосылку социализации, но не сам социализм, то сегодня можно говорить о происходивших переменах с точки зрения современных теорий систем и системности. И тогда получается, что в предоктябрьский период формально собственность все еще принадлежала старым владельцам, но фактически – через фабзавкомы в сфере производства, через профсоюзы в сфере распределения, через рабочую кооперацию в сфере обмена – рабочее самоуправление все решительнее создавало условия для победы коллективных, некапиталистических форм собственности. Система рабочего самоуправления имела и соответствующую политическую надстройку – Советы.
По-новому можно взглянуть сегодня и на потрясшую страну аграрную революцию. В частности, существенной корректировке необходимо подвергнуть укоренившуюся со времени марксистов типа Г.В. Плеханова и Л.Д. Троцкого точку зрения на «несоциалистичность» русского крестьянства. В этом смысле названные авторы не только серьезно искажали действительность, но и подвергали существенной ревизии своего учителя – К. Маркса, видевшего путь России к новому, более справедливому обществу именно через поземельную крестьянскую общину и существовавшие в стране традиции трудовой демократии и социальной справедливости.
Вряд ли стоит преувеличивать значение названных выше явлений, но и не учитывать их при анализе причин и предпосылок Октября будет ошибочно.
Но если закономерность революции и ее октябрьского этапа сегодня мало кто подвергает сомнению, то все еще нерешенным остается другой, так же весьма научно значимый вопрос. Уже в 1917 г. и сразу после него некоторые участники событий утверждали, что если бы не приезд Ленина, если бы не его радикализм, русская революция не зашла бы так далеко, не приняла такие широкомасштабные формы. В качестве альтернативы позиции большевиков называют умеренность их собратьев по социал-демократическому цеху – меньшевиков.
Так что же все-таки породило большевистский радикализм: их партийные установки или сама эпоха, требовавшая от политиков и участников событий все более смелых, радикальных и нетривиальных подходов? Вот на этот вопрос мы и постараемся коротко ответить, или, точнее в самых общих чертах предложим направление поиска ответов на него.
С одной стороны, истоки позиции большевиков в 1917 г. можно изучать с точки зрения эволюции самого большевизма. Но можно поступить и по-другому, а именно пойти по пути выявления общих закономерностей той эпохи. В частности, логично предположить, что если сама эта эпоха диктовала политикам стиль и методы их политической борьбы, то это должно было отразиться и в установках всех партий, а не только большевиков, например в установках все тех же «антиподов большевизма – меньшевиков». Так ли происходило в действительности? Вот об этом мы и выскажем несколько замечаний сегодня.
В прежние годы принято было подчеркивать пассивность меньшевиков и умеренность их позиции. На самом деле, в меньшевизме существовало несколько платформ от крайне правых до таких, которые мало чем отличались от большевиков, по крайней мере – их умеренного крыла, которое связывают с именами Л.Б. Каменева, А.И. Рыкова и др. Но даже меньшевики, стоявшие на самом правом фланге отнюдь не соответствовали тому образу, который формировался в учебниках по истории в прежние годы.
«Само правительство, – читаем мы в одном из документов меньшевиков, выпущенных ими до момента февральской революции, – делая вид, что борется с дороговизной и недостатком продуктов, на деле своей продовольственной политикой, нелепыми и несогласованными действиями тупой и продажной администрации лишь вносит путаницу, ухудшает положение»385. И еще более митингово: «Режим самовластия душит страну… Рабочему классу и демократии нельзя больше ждать. Каждый пропущенный день опасен. Решительное устранение самодержавного режима и полная демократизация страны является теперь задачей, требующей неотложного разрешения, вопросом существования рабочего класса»386. Первый текст принадлежит Петербургской инициативной группе социал-демократов меньшевиков. А второй документ – еще более правому меньшевистскому течению – рабочей группе в Центральном Военном Промышленном Комитете, которую возглавляли известные антагонисты Ленина М.И. Бройдо, К.А. Гвоздев, Б.О. Богданов.
Этот сдвиг влево, постепенная радикализация некоторых течений внутри меньшевизма, а по некоторым проблемам и всей меньшевистской партии, углублялись по мере разрастания гражданского конфликта в обществе. Процесс этот был, конечно, непростым, противоречивым. Известно, что в области государственного строительства меньшевики стояли на достаточно консервативных позициях. В первые же дни революции они поддержали передачу власти Временному правительству. Позже, вопреки всем канонам революционного марксизма, направили своих представителей в буржуазное по сути, хотя и коалиционное по названию правительство. Но то, что в области экономики позиция меньшевиков являлась чуть ли не более левой, чем у большевиков, об этом мало кто знает.
Но радикализм, даже по меркам большевиков, меньшевистской программы признавал сам В.И. Ленин. Вот что он писал по поводу экономической программы министра-меньшевика М.И. Скобелева: «Программа сама по себе не только великолепна и совпадает с большевистской, но в одном пункте идет дальше нашей, именно в том пункте, где обещается “забрать прибыль из касс банков” в размере “100 процентов прибыли”. Наша партия – гораздо скромнее. Она требует в своей резолюции меньшего, именно: только установления контроля и “постепенного” (слушайте! слушайте! большевики за постепенность!) “перехода к более справедливому прогрессивному обложению доходов и имуществ”. Наша партия умереннее Скобелева»387.
И это не было исключением. Программы всеобъемлющего государственного контроля разрабатывала большая группа меньшевиков, объединявшаяся вокруг Экономического отдела Петроградского Совета, Министерства Труда Временного правительства, различного рода структур рабочей кооперации. Наиболее широкомасштабные и выверенные планы глубинных преобразований народного хозяйства воюющей России принадлежали меньшевистскому теоретику В.Г. Громану.
Оценивая систему управления российской экономикой в годы войны, он окончательно убедился в том, что любая попытка «выборочного регулирования», т.е. выборочно регулировать отдельные сферы экономики, например, железнодорожный транспорт, сырьевые и оборонные предприятия, лишь усилит диспропорции в и без того гниющем рыночном хозяйстве. Как отмечает американская исследовательница З. Галили, с радикальной программой экономических реформ выступили экономисты Петроградского Совета – меньшевики П.А. Гарви, Б.О. Богданов и другие. Например, тот же Громан, взяв за основу опыт воюющих держав, прежде всего Германии, пришел к важным выводам. Он полагал, что только всеобъемлющее государственное регулирование способно спасти экономику страны. По сути, это было одним из первых обоснований негодности полурыночных–полуплановых методов ведения хозяйства в условиях кризиса. В чрезвычайных условиях государственный контроль, полагал Громан, не должен быть половинчатым, а должен касаться всех сфер народного хозяйства388.
Возникала дилемма: либо умеренность в политической сфере нивелирует революционность меньшевистской экономической платформы, либо, наоборот, революционность планов в области в экономики вынудит отказаться от соглашательства в политической сфере. Окончательно эта дилемма решена не была. Большевики, гораздо более точно реагировавшие на изменение ситуации в стране, опередили меньшевиков, и пришли к власти. Но, несмотря на зигзаги линии меньшевизма в 1917 г., отчетливо прослеживалось их смещение влево вслед за левевшими массами. Процесс этот шел медленно, но шел. Доказательством тому – позиция меньшевиков в период Корниловского мятежа, когда они пошли на коалицию в революционных комитетах с большевиками. Именно это временное полевение меньшевиков во многом повлияло на позицию Ленина, решившего в этот момент предложить правым социалистам формулу коалиции всех социалистических сил на платформе бойкота буржуазных партий.
Но тенденции к полевению меньшевиков были непрочными. Их стремление к сотрудничеству с большевиками – непоследовательным. Вскоре после поражения корниловского выступления некоторые лидеры меньшевиков попытались вернуться к прежней тактике соглашательства, союза не с социалистическими, а с буржуазными партиями. В результате меньшевистская партия, только-только пришедшая к своему объединительному съезду, вдруг вновь оказалась на гране раскола. Даже те, кто вчера выступал за коалицию с буржуазией, засомневались в правильности продолжения прежней тактики. Кабинетные соглашения уже не устраивали многих меньшевиков, да и не только их – по принципиальным соображениям в новое правительство не вошел лидер партии эсеров В.М. Чернов. Резче всех сформулировал начинавшие набирать вес настроения Ю.О. Мартов, заявивший на Демократическом совещании в конце сентября 1917 г.: «Я не знаю … других способов творения власти, кроме двух: или жест гражданина, бросающего бюллетень в избирательную урну, или жест гражданина, заряжающего ружье»389.
Смысл этого его выступления сводился к передаче власти однородному социалистическому министерству. Однако тогда это предложение Мартова, так же как и готовность к компромиссу со стороны Ленина, оказалось невостребованным. Результат последовал довольно скоро – уже в конце октября меньшевики уступили большевикам инициативу и окончательно потеряли возможность влиять на власть в стране. Поэтому вовсе не удивляет, что и некоторое время после победы большевистской революции отдельные течения внутри меньшевизма продолжали отстаивать именно левую альтернативу. Ярким подтверждением этого может служить позиция меньшевиков и их союзников эсеров на Учредительном собрании, в том числе и то, что практически все предложенные ими законопроекты в чем-то «дублировали» Декреты Октябрьской революции, принятые на II Всероссийском съезде Советов. Единственно, что политический эгоизм помешал этим партиям умеренных социалистов признать приоритет в этих вопросах большевиков, но общее направление революции, тем не менее, очевидно. Непоследовательность меньшевиков в том, что называется следованием духу эпохи, стоила им очень дорого.
Реформы или революции? Альтернативы политического и социального развития России в начале ХХ в
Трансформация русской триады в национальном культурном самосознании творческой личности: М. Волошин о вселенском значении Русской революции
Архипова Л.М.
Аннотация. Статья отражает результат исследования в русле интеллектуальной истории индивидуального опыта переживания М.А. Волошиным гибели русской цивилизации. В условиях агрессивной социальной среды он нашел способ самосохранения личности в творчестве, в создании оригинальной и эпически возвышенной мифологии Русской революции.
Ключевые слова: интеллектуальная история, М. Волошин, национальное культурное самосознание, «Русь – Третий Рим», жертвенность.
TRANSPHORMATION OF THE RUSSIAN TRIAD IN THE NATIONAL CULTURAL IDENTITY OF THE CREATIVE PERSONALITY: M. VOLOSHIN ABOUT UNIVERSIAL SIGNIFICANCE OF THE RUSSIAN REVOLUTION
Arkhipova L.M.
Abstract. The article reflects the result of the study in line with the intellectual history of the individual experience of M.A. Voloshin destruction of Russian civilization. In the harsh social environment he found a way of self-preservation of the individual in creativity, in creating original and epically sublime mythology of the Russian revolution.
Keywords: intellectual history, M. Voloshin, national cultural identity, «Russia – Third Rome», the sacrifice.
Социальная функция творческой личности заключается в интенсивной рефлексии духовных смыслов происходящих событий и своего места в изменяющемся потоке бытия сквозь призму национального культурного самосознания. В этом процессе личность проявляет как индивидуальные свойства собственного мировосприятия, так и характерные черты самоопределения особой социальной группы – творческой интеллигенции, и, наконец, еще более глубоко укорененные в ее сознании общенациональные архетипы, мифологемы и идеологемы390. В условиях агрессивной социальной среды эта сложная система мышления претерпевает изменения. Личность стремится к переосмыслению ценностных приоритетов с целью самозащиты, самосохранения и достижения большей психологической устойчивости в драматических жизненных перипетиях. Образы революции, созданные воображением творческой личности, позволяют проследить трансформацию наиболее значимого концепта русской культуры «Москва – Третий Рим» в условиях антигуманитарной катастрофы. М. Волошин «исторически и апокалиптически»391 осмыслил разнообразные события 1917–1924 гг., что обеспечило целостность его поэтической версии и обусловило активное внимание к ней со стороны исследователей392.
Представление о Русской революции складывалось в сознании М. Волошина постепенно – по мере изменявшихся жизненных обстоятельств и знакомства с историографическими источниками, агиографической литературой, религиозно-философскими трудами соотечественников393. Особое место в его личной библиотеке занимали труды В. Соловьева394.
Вследствие ярко выраженной концептуальности поэзии М. Волошина тех лет, она оказалась насквозь пронизана моральными императивами – с той только особенностью, что они своеобразны по духу и не дидактичны, несмотря на активное использование поэтом библейских образов для их передачи. Это объясняется содержанием телеологической концепции Русской революции М. Волошина, которая обладала всеми признаками мифа. В ней отразился символический универсум русской культуры. Она наделила высоким религиозно-духовным смыслом повседневность, преобразив безысходную обыденность разворачивавшейся исторической драмы. Из не связанных причинно-следственными отношениями событий прошлого и настоящего поэт создал целостный образ России, в котором бессмысленные жертвы приобрели достойное значение.
Безусловно, сам факт создания поэтической мифологии Русской революции и Гражданской войны служит убедительным свидетельством интеллектуальной силы и психологической зрелости ее автора. Между тем, это еще не влечет за собой такого же безусловного признания его православной идентичности и культурной близости русскому национальному самосознанию, несмотря на то, что сам поэт считал себя выразителем Русской идеи прямо или опосредованно – через культурного героя поэтических произведений. В качестве обязательной ценностной основы для анализа современности М. Волошин указывал на «глубокую религиозную веру в предназначенность своего народа и расы. Потому что у каждого народа есть свой мессианизм, другими словами представление о собственной роли и месте в общей трагедии человечества»395. Русская идея, как ее увидел поэт в Революции и Гражданской войне, при заметном внешнем сходстве с культурным концептом русского национального самосознания «Москва – Третий Рим», все же принципиально иная как в своих духовно-религиозных истоках, так и историко-философских смыслах.
Русская триада зародилась и развивалась в церковной традиции, откуда перешла в политическую консервативную мысль и, наполняясь новой аргументацией и содержанием, неизменно включала в себя православный религиозный мессианизм, самодержавную модель власти и народность396. При этом, независимо от «формата» проявления триады – церковного, политико-идеологического или литературно-художественного – подразумевались особенности психологии русского народа. Наиболее ярко они сформулированы в работах Г.П. Федотова по проблемам национального самосознания. Он отмечал, что архетип духовной жизни народа был создан русскими святыми, в великом сонме которых заметна многочисленность мирян – мучеников и праведников, следовавших евангельскому образу Спасителя, что свидетельствовало о живой вере русского народа. Г.П. Федотов выявил в русской религиозности особый кенотический тип святости, отличавшийся евангельской любовью к Богу, аскетизмом и жертвенностью, что и позволило народу преодолеть все трудности его исторического бытия397.
Именно идея спасительной жертвенности русского народа находится в основании революционной мифологии М. Волошина, но ее интерпретация принципиально отличается от церковно-религиозной и более соответствует духовным поискам и заблуждениям творческой интеллигенции Серебряного века398. Поэт и сам признавался, например, при обращении к образу святого преподобного Серафима в 1919 г., что не будет писать «ни ортодоксально, ни церковно», но и «шутить, …кощунствовать» также не собирается399. От последнего удержаться было сложно, поскольку влияние антропософии на творчество М. Волошина признается очевидным400.
Впервые жертвенный рок России был раскрыт М. Волошиным в докладе «Россия – священное жертвоприношение», прочитанном братьям-масонам еще в июле 1905 г. в Париже401. Спустя два года М. Волошин в лекции «Пути Эроса» представил свою интерпретацию христианства в вопросах добродетели и порока, квинтэссенция которой выразилась в утверждении: «Ближе к Христу тот, кто глубже погружен в грех, кто больнее и униженнее распят в материи… Отпадший Ангел ближе к Христу, чем Элоим-Егова. Человек ближе, чем Ангел…»402. В ее основе был синтез оккультно-теософских и платоновских источников, идеи В. Соловьева о Софии – Премудрости Божией.
Евангельская тема предательства Иуды получила в лекции М. Волошина парадоксальную трактовку, как «подвиг высшей жертвы и высшего смирения», так как «Иуда должен предать Христа, чтобы Христос мог умереть и воскреснуть»403. Поэт поставил «рядом с жертвой Христа подвиг Иуды» как жреца с чистыми руками, «самого посвященного из Апостолов», принявшего на себя «великую жертву уничижения, смирения, и позора». Равенство их подчеркивалось характерным именованием Сына Божия человеком («рядом с человеком Христом стоит человек Иуда»). В том же антропософском ключе иудино причастие (кусок хлеба, омоченный солью) и призыв Христа «исполни, что задумал» приобретает двусмысленный характер фатальной избранности Иуды. Весь сюжет заключен в историософский контекст: «Христос – Эрос. Иуда – Материя», Материя подчиняется Духу. По убеждению поэта, «человечеству предстоит понять и принять подвиг Иуды: высшее смирение физической природы перед преступлением, перед грехопадением, во имя единения в духе, во имя Эроса – Воскресителя, во имя Христа»404.
В 1917–1923 гг. исключительную актуальность приобрела мысль о предпочтительности греха – стихии, природной страсти, хаоса, мятежа, «дионисова огня» (в идеологии М. Волошина) по сравнению с добродетелью – мещанским комфортом, машинным демонизмом, технической организацией и «апполиническим духом» соответственно. Верх брала также идея смирения физической природы перед преступлением для «преосуществления» человека. Своеобразным ключом к пониманию образа революционной России служит строчка из той же лекции 1907 г.: «Путь порока труднее, мучительнее и страшнее, но он более быстро и более прямо ведет к конечной цели и к слиянию с Божеством»405.

