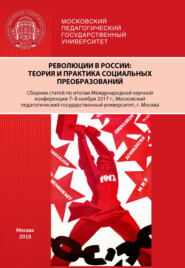 Полная версия
Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований
Сопоставление антропософского толкования Евангелия М. Волошиным с его революционной мифологией позволяет заметить, что в истории человечества именно России поэт отводил роль Иуды в грядущем преображении мира. В 1918 г. было написано стихотворение «Апостол Иуда», где сюжет с иудиным причастием получил развитие и определенность: «Тот же, съев кусок, тотчас вышел: / Дух земли – Сатана – вошел в Иуду – / Вещий и скорбный. / Все двенадцать вина и хлеба вкусили, / Причастившись Плоти и Крови Христовой, / А один из них земле причастился / солью и хлебом. / И никто из одиннадцати не понял, / Что сказал Иисус, / Какой Он подвиг возложил на Иуду / Горьким причастием»406.
Антинациональные и потрясающие по обличающей энергетике, негативные образы России в стихах М. Волошина могут объясняться только тем, что ей суждено принять иудино причастие, ей «Искус дан суровый: / Благословить свои оковы, / В темнице простираясь ниц, / И части восприять Христовой / От грешников и от блудниц…»407. В «Красной Пасхе» (1921) автор отступил от своего творческого принципа: не подменять искусство натурализмом, дабы не спекулировать на человеческих инстинктах. Образы этого стихотворения отличаются особой визуальностью, складываются в жуткую картину человеческого падения, мерзости запустения и одичания: «Зимою вдоль дорог валялись трупы / Людей и лошадей. И стаи псов / Вьедались им в живот и рвали мясо, / Восточный ветер выл в разбитых окнах. / А по ночам стучали пулеметы, / Свистя как бич, по мясу обнаженных / Мужских и женских тел…»408. Заключительные строчки противоречат христианскому устроению души: «Зима была в тот год Страстной неделей / И красный май сплелся с кровавой Пасхой, / Но в ту весну Христос не воскресал»409, если только не принять во внимание то, что ужас Гражданской войны сравним, по мысли поэта, только со вселенской катастрофой – с Апокалипсисом.
Стихотворения 1920–1921 гг. по названиям – «Террор», «Бойня», «Голод», «На дне преисподней», «Терминология» и др. – и по натуралистичности образов составляют важную часть общей революционной мифологии М. Волошина. Он видел предназначение России в жертвенной гибели в военно-революционных мировых катаклизмах, последующем воскресении в Славии для того, чтобы стать оплотом славянства и «нести свой крест – всемирное служение»410.
В стихотворениях «Родина», «Преосуществление», «Ангел времен», «Видение Иезекииля» (1918), «Заклинание» (1920), «Готовность» (1921) М. Волошин интерпретирует постигшее страну зло как избранничество России для принятия ею «иудина подвига» во имя воскресения человечества в Царстве Божием. «Из крови, пролитой в боях, / Из праха, обращенных в прах, / Из мук казненных поколений, / Из душ, крестившихся в крови, / Из ненавидящей любви, / Из преступлений, исступлений – / Возникнет праведная Русь»411.
Россия призвана защитить Европу от «тончайшей изо всех зараз» – мечты социализма, к которой М. Волошин чувствовал «неприязнь» и которую воспринимал как «самую страшную отраву машинного демонизма Европы», как «то же, что германизм» – «обожествление здорового комфортабельного эгоизма»412. «Не нам ли суждено изжить / Последние судьбы Европы, / Чтобы собой предотвратить / Ее погибельные тропы»413.
Спасительная миссия России выстраивается в концепции М. Волошина одновременно сквозь общую призму устойчивых русских национальных идеологем и антропософскую периодизацию всемирной истории Р. Штейнера, «прозревавшего» смену эпохи главенства германской расы главенством славянской как эпохой последних времен – тысячелетнего торжества Духа. «Русь – Третий Рим – слепой и страстный плод: / Да зачатое в пламени и в гневе / Собой восток и запад сопряжет»414.
Германия олицетворяла дух внешнего, материального прогресса, идеальной организованности, так необходимой «демонам машин» для перестройки человеческого общества «по своему образцу», превратив его, добавим, в тот самый сытый и послушный муравейник, о котором писал Ф.М. Достоевский в легенде об Инквизиторе. В 1915 г., размышляя о характере мировой войны, М. Волошин отмечал, что государственный строй не только Германии, но и Англии, Франции, а также России как европейской страны не способен оказывать сопротивление власти «демонов», разлагающему духовную основу культуры влиянию цивилизации. «Одно славянство несет в себе силы, которые смогут преобороть соблазн машинной и технической культуры»415. В отличие от других европейцев, уже подчинившихся соблазну индустриального комфорта, «народ России не принял печати антихристовой» и поэтому «в ней одной может быть спасение для Европы. Она одна может выработать ту новую мораль, которой победятся демоны машин». Ее спасение придет «только изнутри – из религиозного сознания». «Ценности России … вне материального мира…», – писал М. Волошин. При этом он повторял и слова Ф.И. Тютчева: «У ней особенная стать»416.
В годы мировой войны поэт считал завоевание Константинополя необходимым условием и символом духовного возрождения России, завершения в ее истории петербургского периода и возвращения к московским и даже киевским истокам концепта «Русь – Третий Рим». В нем, как в религиозном центре «морального кипения», «выплавится нравственный лик Славянства»417. В 1918 г. М. Волошин рассматривал «астральные аспекты» положения стран на политической карте Европы и заметил взаимосвязь переживаемых народом революционных событий с всемирно-исторической миссией России418. Провидение сулило ей пройти сквозь испытания Гражданской войны как через чистилище, приняв «чужих страстей, чужого зла / Кровоточивые стигматы»419, «преосуществить» зло мира, в котором господствуют Материя и эгоизм, в победу Духа: «Так семя, дабы прорасти, / Должно истлеть… / Истлей, Россия, / И царством духа расцвети!»420. Герои М. Волошина – носители христианского анархизма, мятежники: протопоп Аввакум, Бакунин, Стенька Разин да Емелька Пугачев. В них он видел истинную Русь. Его антигерои – выразители порядка и организованности, олицетворявшие государственность. Это, прежде всего, русские цари и императоры, что и отражено М. Волошиным в поэме «Россия» (1924). Самодержавная модель власти не рассматривалась поэтом как положительный фактор русской истории и условие реализации идеи «Москва – Третий Рим».
Отношение солдатских масс к Октябрьской революции в свете выборов в Учредительное собрание в действующей армии в ноябре 1917 г
Базанов С.Н.
Аннотация. Статья посвящена особенностям выборов в Учредительное собрание на каждом из пяти фронтов русского театра военных действий в ноябре 1917 г.
Ключевые слова: Первая мировая война, действующая армия, Октябрьская революция, выборы в Учредительное собрание, большевики, эсеры.
THE ATTITUDE OF THE SOLDIER MASSES TOWARDS THE OCTOBER REVOLUTION IN THE LIGHT OF ELECTIONS TO THE CONSTITUENT ASSEMBLY IN THE ACTIVE ARMY IN NOVEMBER 1917
Bazanov S.N.
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of elections to the Constituent Assembly on each of the five fronts of the Russian theater of military operations in November 1917.
Keywords: First World War, active army, October revolution, elections to the Constituent Assembly, Bolsheviks, Socialist-Revolutionaries.
Как известно, идея Учредительного собрания – органа, созданного на основе всеобщего избирательного права для выработки конституции страны, берет начало в Великой французской революции. Претворение в жизнь этого лозунга представляет собой максимальное проявление народовластия (как писал В.И. Ленин, «в буржуазной республике Учредительное собрание является высшей формой демократизма»)421. Не случайно его сторонниками были все российские политические партии, развернувшие в начале ХХ в. борьбу с самодержавием, в том числе и большевики.
Однако после свержения самодержавия отношение большевистской партии к идее Учредительного собрания изменилось. Вернувшись из эмиграции, Ленин 4 апреля 1917 г. заявил: «Жизнь и революция отводят Учредительное собрание на задний план»422. С ростом влияния Советов нарастало и неприятие Лениным парламентаризма, как буржуазной формы государственности: «Советы выше всяких парламентов, всяких Учредительных собраний»423. Две другие крупные социалистические партии – эсеры и меньшевики, занявшие после Февральской революции центристские позиции, сохраняли приверженность идее Учредительного собрания. А кадеты даже немало сделали для разработки его статута.
Против созыва Учредительного собрания выступили лишь крайние политические группировки. На правом фланге это были ультрамонархисты, не желавшие поступаться принципами «самодержавия, православия и народности», на левом – вели пропаганду анархисты. «Чего народ не осуществил фактически, – писала накануне выборов газета “Анархия”, – того не даст ему никакое правительство, никакой парламент, никакое Учредительное собрание»424. Так в целом выглядели позиции наиболее влиятельных политических партий и течений, впоследствии легшие в основу их предвыборных платформ.
Российское общество с пониманием отнеслось к предстоящим выборам. Как писал секретарь Всероссийского Учредительного собрания М.В. Вишняк, «к Учредительному собранию основная толща русского народа относилась со своеобразной мистической верой, и день выборов в деревнях и провинциальных городах был днем праздника и гражданского торжества»425. А по словам А.М. Горького, «лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного собрания… В борьбе за эту идею погибли в тюрьмах, ссылке и на каторге, на виселицах и под пулями солдат тысячи интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой священной идеи пролиты реки крови»426. Пафос приведенных строк легко объяснить: они написаны в январе 1918 г. – всего через несколько дней после разгона большевиками Учредительного собрания и расстрела манифестации его сторонников.
О созыве Учредительного собрания Временное правительство официально заявило 2 марта 1917 г. Созданное 13 марта Особое совещание по подготовке закона о выборах начало работу 25 мая, а закончило в начале сентября. В этот орган входили представители различных политических партий, местных Советов и общественных организаций. 14 июня Особое совещание объявило дату выборов в Учредительное собрание – 17 сентября, а также его созыва – 30 сентября. Однако 9 августа эти сроки были перенесены соответственно на 12 и 28 ноября.
Положение о выборах в Учредительное собрание, утвержденное Временным правительством, предусматривало пропорциональную систему выборов, основанную на всеобщем избирательном праве. С 7 августа начались заседания Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии, задачами которой были их подготовка и проведение. В сентябре управы городских дум и земств, составившие ранее списки избирателей в органы местного самоуправления, приступили к аналогичной работе по выборам в Учредительное собрание. Процедура выборов для армии и флота была утверждена Временным правительством 30 сентября, но под давлением разных обстоятельств (менялись сроки выборов, представительские квоты и т.д.) до последнего дня постоянно корректировалась.
Порядок голосования в действующей армии и военных округах не был одинаковым. Из войск действующей армии были образованы Северный, Западный, Юго-Западный, Румынский и Кавказский фронтовые избирательные округа, а также округ русских экспедиционных войск во Франции и на Балканах. В отдельные округа были выделены Балтийский и Черноморский флоты. Все эти округа делегировали в Учредительное собрание своих депутатов. Вместе с фронтовиками должны были голосовать служащие Союза земств и городов, обеспечивавшие разнообразные нужды фронта. Всего действующая армия, согласно положению, избирала 80 депутатов. Военнослужащие тыловых гарнизонов должны были голосовать вместе с местным населением за общие списки кандидатов. Но в крупных гарнизонах создавались отдельные избирательные участки. Военнослужащие, по разным причинам оказавшиеся в период выборов вне своих воинских частей, могли голосовать на гражданских участках, если своевременно были внесены в списки избирателей.
Вначале установили очень сжатые для фронтовых условий сроки составления списков для голосования – за 10 дней до начала выборов. Еще два дня отводилось на их уточнение. И если в гражданских округах военнослужащие должны были голосовать одновременно с местным населением, то во фронтовых выборы должны были начаться 8 ноября и продолжаться семь дней, а на самом удаленном фронте – Кавказском – с его особо сложными природными условиями выборы намечались на неделю раньше, т.е. на 1 ноября, и должны были длиться до 15 ноября. Однако в установленные Комиссией сроки армия не уложилась. Так, на Румынском фронте голосование завершилось только 17 ноября, на Северном – 21-го, на Западном и Юго-Западном – 22-го, на Кавказском – 24-го. Но, несмотря на такую задержку, вызванную, в основном, фронтовой спецификой, в целом выборы в действующей армии прошли успешно. Причем явка фронтовиков на избирательные участки была достаточно высокой: в общефронтовом масштабе (без Кавказского фронта) в выборах участвовало не менее 72% солдат и офицеров427.
Подобная активность фронтовиков сама по себе служит мерилом социальных ожиданий от созыва Учредительного собрания и подтверждением его популярности в действующей армии. Политическая активность фронтовиков отчетливо проявилась и в том, что они явочным порядком увеличили свое представительство в Учредительном собрании. Так, уже в разгар выборов фронтовые окружные комиссии по инициативе Юго-Западного фронта изменили норму представительства со 100 тыс. человек до 75 тыс. Такое решение подтвердил Съезд представителей фронтовых избирательных комиссий, проходивший 15 ноября в Ставке Верховного главнокомандующего – в Могилеве428.
Все пять фронтов и два действующих флота суммарно избрали 80 депутатов: 35 эсеров, 34 большевика, 7 украинских эсеров, 1 меньшевика, 1 украинского социал-демократа, 2 украинских социалистов. Таким образом, все депутаты были избраны по спискам социалистических партий, т.е. солдаты-фронтовики фактически поддержали социалистическую революцию. Депутатом на Северном фронте и Балтийском флоте был избран В.И. Ленин. Как известно, он отдал свой мандат в округе Северного фронта следующему в списке кандидатов большевику А.Г. Васильеву, а сам стал депутатом от Балтийского флота. Если среди моряков-балтийцев (114 433 избирателя) большевики собрали 57,4% голосов, а эсеры 38,8%, то на Черноморском флоте (52 629 избирателей) за большевиков голосовало только 20,5%, а за эсеров – 42,3%429.
Северный фронт из-за близости к Петрограду был наиболее большевизирован. Не случайно здесь из 780 тыс. избирателей за большевиков голосовало 480 тыс. (56,1%). На соседнем Западном фронте их победа была еще внушительнее: из 976 тыс. избирателей большевикам отдали голоса 653 430 человек (67%). На дальних же фронтах – Юго-Западном и Румынском – победили эсеры. Несмотря на то, что здесь, как и на ближних к столицам фронтах, имели место частые антивоенные выступления, большевистское влияние было все же недостаточным. Отсутствовали крупные большевистские организации и в тыловых районах этих фронтов, а солдатские комитеты почти везде находились в руках эсеров и меньшевиков. К тому же местным большевикам не удалось создать свои ревкомы и взять власть, как это они успели сделать на Западном и Северном фронтах. На Юго-Западном фронте из 1 007 423 избирателей – 463 тыс. (41%) отдали голоса за эсеров, а за большевиков – 300 тыс. (31%). На Румынском фронте (1 128 600 избирателей) голосование дало эсерам 679,4 тыс. (60%), а большевикам – 167 тыс. (15%)430.
На самом периферийном фронте – Кавказском – политическая обстановка в целом была такой же, как на Юго-Западном и Румынском, что принесло победу эсеровской партии. Из 420 тыс. избирателей ей отдали предпочтение 360 тыс. (69,6%), а большевикам – 60 тыс. (18,4%)431.
Всего из общего числа военнослужащих действующей армии, участвовавших в выборах (4 479 085 человек), 2 741 698 избирателей (61,2%), по нашим подсчетам, проголосовало, в основном, за эсеров, меньшевиков и национальные социалистические партии; остальные 1 737 387 (38,8%) – за большевиков. Иными словами, последние набрали среди фронтовиков голосов больше, чем по стране в целом (24,6%).
Позже, в декабре 1919 г., Ленин в статье «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата», обратившись к итоговым цифрам по действующей армии, сделал вывод: «большевики получили немногим менее, чем эсеры. Армия была, следовательно, уже к октябрю-ноябрю 1917 года наполовину большевистской»432. Однако если бы это было так, то советскому правительству, возможно, не потребовалось бы ее срочно демобилизовывать и создавать новую Красную Армию.
Почему же большинство действующей армии не проголосовало за большевистскую партию? Видный эсеровский лидер, один из организаторов партийной работы в действующей армии Б.Ф. Соколов писал: «Благоприятная почва позволила весьма широко и полно развить партийную работу в армии. Уже с апреля месяца мы начали готовиться к выборам, поставив себе неотложной задачей организацию непременно во всех, даже в самых малых, воинских частях партийных ячеек. Эта организационная работа дала чрезвычайно продуктивные результаты во время выборной кампании»433.
Правда, в то время, когда местные армейские эсеры всецело занимались предвыборной агитацией (конец октября – середина ноября), большевики вели ожесточенную борьбу за власть в действующей армии – создавали ревкомы, брали под контроль командование, смещали комиссаров Временного правительства, заменяя их советскими, обеспечивали выполнение на фронте первых декретов новой власти – о мире, демократизации, демобилизации и т.д. Таким образом, для серьезной агитации у большевиков просто не хватало ни людей, ни времени. К тому же, напомним, еще с весны 1917 г. большевистское руководство отдавало предпочтение Советам, рассматривая Учредительное собрание лишь как один из институтов буржуазной демократии.
Архив Заграничной агентуры Департамента полиции: формирование источникового комплекса в контексте революционных событий 1917 г
Бибикова Л.В.
Аннотация. В статье отражена судьба архива Заграничной агентуры Департамента полиции после событий Февральской и Октябрьской революций 1917 г.
Ключевые слова: Департамент полиции, заграничная агентура, архив, революция, Временное правительство, большевики, эмиграция.
ARCHIVE OF THE FOREIGN AGENCY OF THE POLICE DEPARTMENT: FORMATION OF THE SOURCE COMPLEX IN THE CONTEXT OF THE REVOLUTIONARY EVENTS OF 1917
Bibikova L.V.
Abstract. The article describes the fate of the archives of the Foreign agents of the police Department after the events of the February and October revolutions of 1917.
Keywords: the police Department, overseas agents, archive, revolution, Provisional government, Bolsheviks, emigration.
Делопроизводственные материалы Департамента полиции – структуры, которая отвечала за борьбу с революционным движением в Российской империи – представляли особенный интерес для тех, кто пришел к власти в 1917 г. в ходе Февральской революции, а затем и для большевиков. В секретной переписке политической полиции надеялись найти различного рода «компромат» на «царский режим». Однако у тех, кто до 1917 г. находился в подполье, был свой особый интерес к этой документации – надежда найти там имена тех, кто, будучи революционером, тайно сотрудничал с политическим сыском, т.е. разоблачить секретную агентуру – «предателей» в своих рядах. В пределах России официально велась тщательная работа с бумагами, хранившимися в здании Департамента полиции в Санкт-Петербурге и помещениях охранных отделений в других крупных городах. Эти бумаги, ставшие «архивными», находились в распоряжении Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. После прихода к власти большевиков архив Департамента полиции достался им – как ценный архивный комплекс.
Заметно иной была ситуация с Заграничной агентурой Департамента полиции, которая на протяжении всего периода существования Департамента полиции (1881–1917 гг.) располагалась в Париже. Заграничная агентура была важным подразделением в политической полиции дореволюционной России – ведь это была единственная структура, следившая за революционной эмиграцией. Именно из заграницы в Россию завозилась нелегальная литература, там создавались типографии, печатались журналы, возникали многочисленные революционные группы, динамитные мастерские и т.п. Центр русского революционного подполья в конце XIX – начале ХХ вв. находился в Европе.
Поэтому неудивительно, что сразу после Февральской революции те революционеры, которые в предыдущие годы пытались «разоблачить» секретных сотрудников Заграничной агентуры (примером их успешной деятельности является «дело Азефа», но это лишь самый известный случай из ряда других), моментально попытались проникнуть в ее помещение. Временное правительство пыталось поставить под контроль «разоблачительную» деятельность революционеров-эмигрантов. Но, из-за физической удаленности архива Заграничной агентуры от Санкт-Петербурга и нараставшего хаоса в управлении в целом, эмигранты, искавшие в бумагах Заграничной агентуры имена «предателей» в своих рядах, оказались, по сути, предоставлены сами себе.
Современное состояние архива Заграничной агентуры Департамента полиции, практически не введенного в научный оборот и мало известного исследователям, показывает, насколько произвольной и непрофессиональной была «работа» эмигрантов, объединившихся в «Комиссию по разбору бумаг Заграничной агентуры», с бумагами «царского режима» в Париже. Эмигранты произвольно выдергивали документы из переписки, делали на них отметки, перерывали картотеки с фотографиями и списками наблюдения, нарушая их внутреннюю структуру, путали эти документы со своими личными бумагами. Некоторые бумаги были изъяты из помещения Заграничной агентуры и в дальнейшем оказались в архивах деятелей этой комиссии (В.К. Агафонов, С.Г. Сватиков).
Однако их непрофессионализм состоял не только в этом. Плохо разбираясь в специфическом языке делопроизводства политической полиции, члены Комиссии по разбору бумаг Заграничной агентуры записали в число «секретных сотрудников» тех, кто таковыми не являлись. После Октябрьской революции 1917 г. некоторые члены комиссии, к этому моменту уже приехавшие из Парижа в Санкт-Петербург, оказались в оппозиции новой власти. Поначалу они еще могли посещать архив Департамента полиции, но вскоре доступ к нему оказался для них закрыт. В 1918 г., независимо друг от друга, два наиболее активных участника работы с архивом Заграничной агентуры – Агафонов и Сватиков – написали работы, посвященные разоблачению секретной агентуры. В своих работах они привели списки выявленных «провокаторов». Обе эти книги остаются до сих пор единственными, где содержится справочная информация о секретных сотрудниках Заграничной агентуры. Несмотря на произвольный характер составленных авторами списков, историография до сих пор обильно цитирует именно эти работы. Эти книги активно использовались и в 1920–1930-е гг., причем как в Советском Союзе, так и в среде «белой эмиграции». И использовались они с одинаковой целью – для выявления «предателей». В 1929 г. при разгроме Академии наук СССР в ее архиве были обнаружены и бумаги Агафонова с некими списками. Эти списки незамедлительно были «пущены в дело» – ОГПУ проверило поименованных в этом списке людей, сравнило полученные из бумаг Агафонова сведения с данными книги того же автора и подготовило отчет о местонахождении этих лиц. Не позднее 1930 г. все эти люди уже были осуждены и оказались в лагерях.
Для «белой эмиграции» же эти книги были вообще единственным источником, проливающим свет на материалы Заграничной агентуры. Если большевики могли сверять сведения книг с имевшимся в их распоряжении архивом Департамента полиции, то архив Заграничной агентуры был запечатан в 1920 г. последним послом Временного правительства в Париже В.А. Маклаковым. Попытки эмигрантов добраться до этого архива Маклаков жестко пресекал, а в середине 1920-х гг. письменно заявил о том, что сжег архив. В действительности он вывез опечатанный архив в США и сдал его в Гуверовский институт войны, мира и революций с условием, что о существовании этого архива будет объявлено через три месяца после смерти самого Маклакова. Так и было сделано в 1957 г.
В данный момент микрофильмированные копии материалов, содержащихся в архиве Заграничной агентуры, хранятся в Государственном архиве Российской Федерации и, по большому счету, еще ждут своего исследователя.
Реформа или революция? Идея Учредительного собрания в контексте планов радикального обновления государственного строя России в начале XX в

