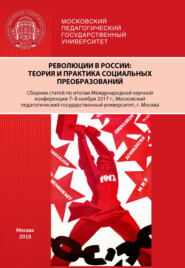 Полная версия
Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований
Надо думать, что в сегодняшних общественных «сражениях» за интерпретацию или переинтерпретацию событий 1917 г. мнение философа тоже имеет вес.
Первоначально русская революция осуждается Бердяевым за непатриотичность и декларируемый антивоенный пафос. Красный Октябрь для него – непосредственный продукт «розового» Февраля. Торжество темной народной массы, охваченной несбыточными мечтами о всеобщем равенстве. Однако переход к такому равенству на практике означал бы крах российской культуры и государственности, которые для своего существования требуют известной доли неравенства. Культура же, вообще, – принадлежность элитарных кругов, являющихся ее творцом и хранителем.
Такая позиция высказывалась мыслителем еще до войны в знаменитом сборнике «Вехи», который уже в год своего появления выдержал три переиздания. Тогда Бердяев писал, что русская интеллигенция вместо того, чтобы народной стихии противостоять, подвела себя под «господство народолюбия и пролетаролюбия, поклонение народу, его пользе, и интересам… Атеистичность ее сознания есть вина ее воли, она сама избрала путь человекопоклонства и этим исказила свою душу, умертвила в себе инстинкт истины»360.
В 1917 г. «в той тирании и том абсолютном уравнении, которыми увенчалось “развитие и углубление” русской революции, осуществляются золотые сны и мечты русской революционной интеллигенции»361.
Впрочем, по прошествии лет, проведенных в эмиграции, революция начинает видеться Бердяеву уже в новом свете. Начинается процесс ее переосмысления. В философе пробуждаются чувства его юности, когда он преподавал в рабочих кружках. Теперь, например, он неожиданно открывает, что «трудно понять тех христиан, которые считают революцию недопустимой ввиду ее насилия и крови и вместе с тем считают вполне допустимой и нравственно оправданной войну. Война совершает еще больше насилия и пролила еще больше крови»362.
Постепенно он приходит к мысли, что крайне наивно полагать, что революционный переворот произошел на пустом месте и не имел под собой глубоких исторических причин.
Вот главные из них, согласно Н. Бердяеву.
Российская империя веками была особой «милитаризованной» страной, в которой роль государства была крайне гипертрофированна.
Ясно осознавали это немногие. Вначале собирание русских земель в Московское царство шло под знаком сопротивления кочевникам. Затем государство сделалось хранителем истинной веры. Защитником от всяческой коррозии и порчи.
«Доктрина о Москве как Третьем Риме стала идеологическим базисом образования Московского царства»363. Иван Грозный рек, что царственный долг самодержца спасать души своих подданных.
Петр, в принципе, придерживался той же позиции. Народ должен жить и работать ради государства. Во имя построения великой империи, ни в чем не уступающей западным аналогам. Социальные классы же оказывались не просто подчиненными государству, но даже образовались по его велению, исходя из государственных соображений, отсюда – промышленная политика Петра, формирование Иваном Грозным дворянства, прикрепление к земле крестьян. Даже в XIX в. государственное чиновничество, в соответствии с расписанной Табели о Рангах, а не купцы или заводчики, было истинным правящим классом.
При этом высший класс все больше «варился в своем соку», отдаляясь от народа. Он быстро образовал внутреннюю продвинутую культуру, стоящую вровень с европейской, тогда как толпы простонародья в лучшем случае «образовывались» в четырехлетних церковно-приходских школах. И продолжали пребывать во тьме суеверий. «…Их [чиновно-дворянская] культура, их нравы, их внешний облик, даже их язык был совершенно чужд народу-крестьянству, воспринимался как мир другой расы, иностранцев»364.
Роскошь дворянских усадеб, балы, изящный французский, пажеский и кадетские корпуса, университеты – все это крестьянам было недоступно. Их дело было – работать, работать и работать, пока последние силы не оставят тело, чтобы содержать это великолепие, плюс уже проржавевшую государственную машину, нуждающуюся в непрерывной финансовой смазке. Исключения в данном случае лишь подтверждают общее правило.
Экономические реформы царской администрации, проводившиеся С.Ю. Витте и П.А. Столыпиным, сословное противостояние не ослабляли. Русский народ меньше всего был для правителей «источником власти», он был смиренным верноподданным. И такое положение рано или поздно должно было вызвать недовольство у активной его части.
Революция в большей степени была не социально-экономическая, а антисословная. Экономические трудности могли и потерпеть, лишь бы выбить верхи из господства. Ведь до революции «в жизни – если не экономически, то морально – господствовал “барин”»365.
В реальности революция – это бой представителей высших и низших сословий. И в ходе его симпатии народной массы в любом случае были не на стороне господ («кадетов»). Тогда как радикалов-большевиков «чернь» воспринимала как «своих» при всех эксцессах со стороны последних.
Красная диктатура, размышляет Бердяев, «оказалась также диктатурой и над крестьянством, и она совершала жестокие насилия над крестьянами, как то было при насильственной коллективизации, при создании колхозов. Но насилие над крестьянами совершалось своими людьми, вышедшими из народных низов, не барами, не привилегированной “белой костью”. Крестьянину больше не говорят “ты”, а если говорят, то и он может говорить “ты”»366.
Другая основополагающая причина революции – неразрешенный земельный вопрос, который, как бич, преследовал Россию со дня отмены крепостного права, когда значительная часть сельскохозяйственных угодий осталась в руках прежних владельцев. Бердяев приписывает крестьянской мысли довольно сложную логику. Крестьяне могли терпеть существование поместий, пока сами дворяне служили Государю, как это было изначально в российском милитаризованном обществе. Но уже после подписания «Указа о вольности дворянства» дворяне от государственной службы освобождались, тогда как крестьяне продолжали оставаться в их подчинении.
Оснований, почему часть земли даже после реформы 1861 г. должна принадлежать дворянству, крестьяне не видели. «Существование огромных латифундий… – настаивает философ – принадлежащих небольшой кучке магнатов, психологически и морально вызывало в крестьянстве возмущение и протест, тем более что русские бары обыкновенно сами хозяйством не занимались»367.
Так рождается идея «черного передела»368 – изъятия уже всей помещичьей земли и раздела между теми, кто ее обрабатывает. Если первоначально эту идею принимают очень немногие, имеет малое значение. Со временем в сознании она закрепилась. Этому помогли и революционеры-народники.
Потом она «выстрелила». Крестьяне жгли помещичьи усадьбы без угрызения совести. Расправу над барами почитали чуть ли не справедливой.
Наконец, философ полагает, что революция имела и еще один, духовный исток. Она прекрасно ответила каким-то глубинным, мистическим чаяниям народа. Это тема наиболее тонкая, но о ней тоже стоит упомянуть. Без нее русская революция теряет свой объем и размерность.
Русская революция в воображении тех, кто ее делал, должна была принесть на землю Высшую Правду. По вдохновению замысла она сопоставима только с Французской. Единственное исключение – «русским несвойственна риторика и театральность, которых так много было во Французской революции»369. Вся описанная русскими писателями-классиками пошлость и мерзость старой России должна быть смыта, и на очищенном пространстве построено светлое общество будущего, в котором о прошлом будут вспоминать лишь с содроганием.
Как видим, тут речь уже не идет о человеческой истории как борьбе экономических классов, к которой марксисты все редуцируют… Не о низкой прозе жизни… О чем-то большем… Почти религиозном… Бердяев настаивает: именно религиозном: «Миссия русского народа сознается как осуществление социальной правды в человеческом обществе, не только в России, но и во всем мире»370. Все это вполне соответствовало мессианским устремлениям Русского Духа.
В практическом плане справедливость понималась так, что «пролетариат должен бороться против овеществления человека, против дегуманизации хозяйства, должен обнаружить всемогущество человеческой активности»371. По крайней мере, так декларировалось.
Суммируя все это, становится понятным, – пишет Бердяев – что Временное Правительство имело мало шансов удержаться у власти.
Керенский был человеком умеренных принципов и не чувствовал настроения масс. Их возрастающего недовольства теми робкими изменениями, которые произошли в феврале. Масса хотела намного большего. Окружение Керенского же возлагало надежды на Учредительное собрание, идее которого было доктринерски предано. И в нарастающей атмосфере разложения и хаоса желало из благородных чувств продолжать войну до победного конца. (Фактически оно и продолжало войну «до конца», но конца своего).
Бердяев: «Солдаты готовы были бежать с фронта и превращать войну национальную в войну социальную»372.
Шли беспрерывные митинги. Народное сознание было настолько «разогрето» в течение 1917 г., что просто так успокоиться оно не могло. Жизнь не могла просто так вернуться в привычное русло.
В таких условиях восстановить в стране порядок могла только диктатура. Но диктатура: какая? Правая или левая?
Правая диктатура могла только обуздать массы. Так сказать, «загнать разнузданную чернь обратно в подвалы». Воодушевить народ и возглавить правая диктатура не могла.
Ленинская диктатура же парадоксальным образом оказывается способной «дать взбунтовавшимся массам… лозунги, во имя которых эта масса согласилась бы организоваться и дисциплинироваться»373. Эти лозунги становятся теми «магическими» символами, способными воздействовать на народное сознание. Другие слова в тот момент не действовали. А о «сбыточности» или «несбыточности» большевистских лозунгов говорить уже не приходилось… Они – работали.
Главный вопрос вызывают не причины, а итоги революции. Они – действительно неоднозначны.
Улыбка истории заключается в том, что весь более чем вековой революционный освободительный дискурс завершился созданием еще одного супер-жесткого бюрократического государства, по суровости внутреннего распорядка даже кое в чем превосходящего монархию.
Основная проблема этого режима – полагает Бердяев – даже не экономическая или политическая, но духовная. Свобода духа, права личности здесь так легко отрицаются, словно экономические успехи, сытость, возрастание державного могущества могут их заменить. Особенно это воспевание великого государства усилилось в сталинское время, когда оно стало воспеванием в буквальном смысле.
Сталин – как это выглядит из заграницы – действительно добивается экономических и социальных успехов. Реализует пятилетний план, проводит индустриализацию, элементарно цивилизует жизнь рабочих и крестьян, открывая им доступ к образованию, к занятию государственных и партийных должностей.
«Аграрная революция означает конец цивилизации, основанной на господстве дворян в бытовой жизни, дворянского стиля»374.
Но отныне «индивидуальный человек рассматривается как кирпич, нужный для строительства коммунистического общества;
он есть лишь средство»375.
Вполне верная идея, что человек призван в соединении с другими организовывать социальную и космическую жизнь, грубо искажается. Конкретный человек становится орудием в руках государства, которое обучает его для своих целей, формирует сознание, а потом задействует на том фронте работ, который почтет нужным.
В итоге Человек, как независимая мыслящая единица, становится единицей, полностью от государства зависящей и полностью ему подчиненной. (Его «освобождение от экономического рабства» оборачивается еще более тотальным подчинением. Теперь он уже должен не только послушно работать, но и послушно чувствовать и думать.) В таком советском подходе к человеку нет ничего нового. Все это Россия хорошо знает, и все это она уже не раз проходила.
Коммунизм периода так называемой «реконструкции» – вполне правомерное продолжение абсолютизации государства Иваном IV и петровской насильственной модернизации старой Руси. «Ленин не был еще диктатором в современном смысле слова. Сталин уже вождь-диктатор в современном, фашистском смысле… Одна безобразная инсценировка советских процессов, на которых обыкновенно всегда в одной и той же форме каются, может внушить отвращение ко всей системе»376.
Но ошибка думать, что Сталин внес в марксизм-ленинизм какую-то аберрацию… Отнюдь нет. Он всего лишь верный продолжатель ленинского дела, как он и сам не раз заявлял. «Коммунистическая революция воспользовалась в свое время анархическими инстинктами, но она пришла к крайнему этатизму…»377. И этот этатизм совпадает с ленинскими планами, с его учением о диктатуре пролетариата, от которого он не собирался ни сном, ни духом отказываться. То есть Сталин действительно продолжатель. Вершитель и надзиратель коммунистического проекта, в котором главное – «учет и контроль»378.
Ленинская тайна (почему он направил страну именно по такому пути?) – полагает Бердяев – заключается в том, что в глубине души знаменитый марксист никогда не верил в человека. Философ пишет: «Ленин не верил в человека, не признавал в нем никакого внутреннего начала, не верил в дух и свободу духа. Но он бесконечно верил в общественную муштровку человека, верил, что принудительная общественная организация может создать какого угодно нового человека, совершенного социального человека, не нуждающегося больше в насилии»379.
При внимательном чтении это можно вычитать уже в его первой программной работе «Что делать?».
Но можно ли такими темными методами сотворить нечто светлое?
Современное восприятие революционных событий 1917 г
Лавицкая М.И., Буреев А.А.
Аннотация. В статье авторами констатируется актуальность революционных событий 1917 г. для российского общественного сознания и преждевременность заявлений о национальном примирении по этому вопросу. Сделан вывод о некорректности использования методов экстраполяции и моделирования при применении пропагандистского подхода к исследованию революции 1917 г. и о необходимости эволюционного развития страны, базирующегося на историческом опыте, осмысленном в рамках научного подхода, что позволит принимать более эффективные политические решения в современной России.
Ключевые слова: революция 1917 г., историческое моделирование, экстраполяция, научный подход, пропаганда, эволюционное развитие, альтернативная история.
MODERN PERCEPTION OF REVOLUTIONARY EVENTS 1917
Lavitskaya M.I., Bureev A.A.
Abstract. In the article the authors state the relevance of the revolutionary events of 1917 for the Russian public consciousness and the prematureness of statements on national reconciliation on this issue. There is the conclusion that the use of extrapolation and modeling methods, which are applied to the propagandistic approach to the investigation of the 1917 revolution, is incorrect. There is a need for an evolutionary development of the country based on historical experience that is meaningful within the framework of a scientific approach that will allow making more effective political decisions in modern Russia.
Keywords: Revolution of 1917, historical modeling, extrapolation, scientific approach, propaganda, evolutionary development, alternative history.
Столетие революционных событий в России, актуализировавшее интерес российского социума к периоду правления последнего русского императора, дает основание полагать, что далекими событиями прошлого, вызывающими нейтральную реакцию, они так и не стали. Судя по эмоциональному накалу, сопровождающему рассуждения на эту тематику, обилию сетевых публицистических материалов, ряд из которых весьма высокого уровня380, антагонизм в современном российском обществе по поводу причин и последствий крушения Российской империи, республики и установления советской власти по-прежнему сохраняется, а все попытки его преодоления на данный момент не являются удачными. В этой связи нам кажутся преждевременными заявления о «восстановлении связи времен, примирении бывших классовых противников и политических антиподов»381 (В.А. Михайлов).
Усиление и поддержание неослабевающего интереса представителей исторической науки и общественности к революционным событиям 1905 г. и особенно 1917 г. обусловлено несколькими факторами, перекликающимися с характерными мотивами, лежащими в основе фундаментальных и прикладных исследований. Многие специалисты-историки руководствуются научным интересом, желанием узнать взаимосвязи исследуемой эпохи, которая для них привлекательна безотносительно к возможному утилитарному приложению этого знания; постановка учеными задач исследования в этом случае выводится из проблемных вопросов, возникших в контексте предыдущего изучения эпохи. Однако в рамках прикладного анализа революций, происходивших в Российской империи, и профессиональными историками, и активными энтузиастами обычно движет определенная мотивация, в которой первым мотивом будет «технологический»: желание извлечь из произошедших событий уроки, важные в контексте сегодняшней повестки дня, а также вынести из этих уроков рекомендации для политической практики, найти правильный способ действий в современный период. Второй мотив – «пропагандистский», который призван воздействовать на эмоциональную сферу адресатов и не лишен нелицеприятности со стороны самих авторов, использующих его (стремление обосновать «правоту» или «преступный характер» той политической силы настоящего или прошлого, к которой исследователь питает симпатии или которую ненавидит). В этом случае симпатии или мнение о предмете у исследователя складывается еще до начала исследования, и он чаще всего «подбирает» удобные ему факты, лучше укладывающиеся в заранее готовую концепцию.
Следует отметить некоторую условность приведенной классификации: ввиду невозможности полного отстранения автора от субъективных пристрастий, даже фундаментальное историческое исследование может вестись им с подсознательным стремлением представить в выгодном свете одну из сторон давнего противостояния и осудить другую. В то же время максимальная добросовестность и тщательное тестирование гипотез позволяют минимизировать ущерб принципу объективности исторического познания, который наносит наличие личных симпатий; с другой стороны, имеющееся позитивное восприятие одной из противоборствующих сторон прошлого, наличие эмоциональной вовлеченности исследователя могут сыграть и положительную мотивирующую роль, заставляя его углубляться в тему намного больше, чем он бы это делал без эмоционального подтекста.
Видится, что задача современной исторической науки в исследовании революционных событий 1905–1917 гг. в России состоит в максимально возможном преодолении «пропагандистского» эмоционально насыщенного подхода к событиям вековой давности, когда изначальной целью ставится не получение всестороннего объективного знания, а оправдание какой-либо позиции, актуальной применительно к событиям в наши дни.
К сожалению, на настоящий момент говорить об успешном уходе от пропагандистского подхода не приходится. Это связано, на наш взгляд, с высокой востребованностью пропагандистских псевдоисторических материалов в средствах массовой информации, актуальной публицистике, аналитике и т.д. Левые политические силы, позиционирующие себя как наследники революционеров 1917 г., пытаются дополнительно легитимизировать себя через оправдание и восхваление революционеров, обоснование их «правоты» и неизбежности иного выхода для них в конкретной исторической ситуации. Их оппоненты или конкуренты, напротив, делегитимизируют современных левых через разоблачение «порочных практик» их предшественников. При этом сложно говорить не только об объективности, но и о достоверности полученных выводов, поскольку ангажированный подход приводит к методологически грубым ошибкам.
Так, очень частым явлением стало некорректное моделирование в рамках «альтернативной истории», основанное на экстраполяции субъективно выбранных краткосрочных тенденций дореволюционных лет. Современные критики революционеров экстраполируют подобранные ими позитивные показатели быстрого промышленного и образовательного роста в Российской Империи в предвоенный период, делая выводы о якобы неизбежном выходе Российской империи на роль самой развитой и мощной державы к середине XX в. в случае, если бы революции удалось избежать. Чтобы опровергнуть их, сторонники революционеров, напротив, подбирают свои показатели, по которым положение России оставалось неудовлетворительным, и тоже их экстраполируют, уверенно говоря о гипотетически неизбежном крахе России, если бы не было революции 1917 г.
Анализ обоих подходов показывает, что и тот, и другой – очевидно некорректны. Так, короткий период бурного промышленного роста, тем более с минимальных стартовых позиций и после нескольких циклических кризисов, отбросивших страну назад, не позволяет сделать выводы о дальнейшем развитии в том же темпе, особенно с учетом известных на данный момент ограничений дореволюционной России (низкая товарность и медленная реформируемость сельского хозяйства, технологическое отставание, слабость национального капитала и пр.). Разумеется, если бы Российская империя не решила аграрные проблемы и сохранила отсталые институты, то промышленность не смогла бы и дальше расти экспоненциальными темпами.
С другой стороны, предположения современных сторонников революции, что все «болезни» страны остались бы и усугубились, также не имеют под собой достаточных оснований. Эти презумпции приписывают сложной структуре страны свойства неживой, чисто механической системы, не способной к сознательному изменению своих параметров. Поскольку в стране было много людей, нацеленных на устранение существующих социальных недостатков, у страны была элита, осознававшая насущные проблемы и необходимость промышленного и аграрного развития, в Российской империи работала система общественного диалога, то нет никаких поводов для утверждения, что все социальные болезни Российской империи, тормозившие ее развитие, остались бы в изначальном виде и даже усугубились. Сторонники революционеров часто приводят аргументы, в которых провал тех или иных дореволюционных начинаний, связанный со сломом жизнеустройства в ходе революции, подается как неизбежный результат дореволюционного устройства, а не революции (например, столыпинская реформа). Однако, на наш взгляд, нет достаточных оснований говорить о полном провале столыпинской реформы, поскольку эксперимент был прерван в связи с революцией. Впрочем, как нет и оснований утверждать, что она смогла бы улучшить положение в сельском хозяйстве достаточно быстро. Любая из выбранных стратегических линий, как правило, поддавалась корректировке, и в худшем случае власти вполне могли изменить или скорректировать ход реформы в соответствии с новым пониманием, следующим из недостаточной успешности исходного замысла.
Как уже говорилось, некорректные исторические экстраполяции описанного типа не связаны с добросовестным и беспристрастным добыванием объективного знания и преследуют цель политической дискредитации оппонентов, которые считают себя наследниками либо дореволюционной, либо постреволюционной традиции. Следует заметить, что точно такие же экстраполяции применяют сейчас сторонники и противники СССР, при этом первые экстраполируют в будущее наиболее успешные десятилетия экономического развития страны, а вторые – 80-е гг. ХХ в. Очевидно, что в одном случае игнорируется невозможность постоянного превышения в промышленной экономике темпов роста над мировыми, а в другом – невозможность постоянной стагнации. Нам представляется, что в таком контексте эти обсуждения, даже будучи публичными, бессмысленны, поскольку аналитических инструментов, которые бы помогли в поиске решения сегодняшних проблем, эти упражнения не дают, а досужие категоричные рассуждения неспециалистов по вышеуказанной проблематике (с переходом в полемику) – вредны, поскольку способствуют дальнейшей фрагментации общества, и без того расколотого по иным основаниям.
Если вместо пропагандистского избрать «технологический» подход «извлечения уроков», это, на наш взгляд, снизит эмоциональный накал восхваления или осуждения деятелей прошлого, но при этом позволит, с учетом исторического опыта, осознанно принимать более удачные политические решения. С точки зрения национальных интересов не приходится говорить, что революции 1917 г. (или события 1991 г., которые тоже называют революционными/контрреволюционными) были удачным решением. В частности, в первом случае страна потеряла стратегически важные территории и возможность дальнейшего расширения, миллионы человек погибли, остались за границей или были изгнаны, общественный диалог стал существовать в узких рамках марксистской парадигмы. Сказанное никак не отрицает такие бесспорные заслуги советской власти, как повышение социальной мобильности, сокращение дифференциации, общей гуманизации отношения к беднейшим слоям, принятие эффективных государственных программ в области образования, медицинской помощи, аграрного и промышленного развития. В этой связи уместно процитировать Президента РФ В.В. Путина, высказавшегося в аналогичном ключе: «Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к русской революции 1917 г., мы видим, какими неоднозначными были ее результаты, как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий»382.



