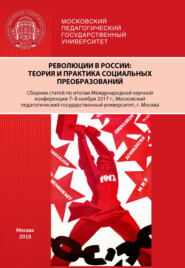 Полная версия
Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований
Поиск нового свободного стиля, который стал выразителем образа советской женщины, был обращен к соединению элементов народного стиля с авангардистскими идеями конструктивистов. Соединение авангарда с народными мотивами для советских художников и модельеров было одним из приоритетных направлений в легкой промышленности 1920-х – 1930-х гг. Представительница ситценабивной фабрики из Москвы в журнале «Искусство одеваться» в 1928 г. писала: «Задача нашего производства – создать новый костюм, который был бы красив, изящен и прост в том смысле, что в нем не будет ничего кричащего и порнографического»329.
Таким образом, стиль советской работницы можно охарактеризовать как «компромисс между большевистской утопией и противостоящей ей западной культурой»330. В молодой стране Советов под воздействием коренных социально-политических преобразований и утверждения новых мировоззренческих позиций, начинает формироваться образ советской женщины – социально активной, свободной, подчеркнуто независимой. Этот образ соответствовал революционной идеологии, которая предполагала абсолютное равенство женщин и мужчин. Новое положение, новый статус женщины, уготовленный революционными преобразованиями, кардинально изменил ее социальную роль и предназначение, которое было сформировано столетиями в прежнем патриархальном обществе. Именно революционные события 1917 г. способствовали трансформации образа скромной и покорной хранительницы домашнего очага в образ женщины-активистки, ударницы социалистического труда и созидательницы общества равноправных граждан.
Русская революция в оккупационной пропаганде Германии и Румынии 1941–1945 гг
Грибков И.В.
Аннотация. Статья посвящена проблеме отражения образов Октябрьской революции и Февральской революции в русской оккупационной прессе в период 1941–1945 гг. Рассматриваются попытки использования «революционных» образов в антисоветской пропаганде.
Ключевые слова: революция, Великая Отечественная война, периодическая печать, пропаганда, оккупация, коллаборационизм, большевизм, социализм.
THE RUSSIAN REVOLUTION IN THE OCCUPATIONAL PROPAGANDA OF GERMANY AND ROMANIA 1941-1945
Gribkov I.V.
Abstract. The article is devoted to the problem of reflecting the images of the October Revolution and the February Revolution in the Russian occupation press in the period 1941–1945. Attempts are being made to use "revolutionary" images in anti-Soviet propaganda.
Key words: revolution, Great Patriotic War, press, propaganda, occupation, collaborationism, Bolshevism, socialism.
История знает немало примеров, когда события далекого прошлого, или образы этих событий, проявляются с самой неожиданной стороны в настоящем. Иногда это происходит неосознанно, «прорастая» в народном сознании, но чаще образы прошлого вызываются целенаправленно для реализации сиюминутных целей и задач. Изучение и деконструкция подобных процессов способствуют очищению исторической науки от мифов. Ограждению ее от фальсификаций.
Данная статья посвящена использованию образа «революция» в информационном пространстве оккупированных территорий в 1941–1945 гг. нацистами и их пособниками. До сих пор этот период окружен немалым количеством мифов.
Одним из самых «живучих» в советский период был миф о якобы имевших место нацистских планах восстановления монархии в оккупированной части СССР331. Аналогичным мифом, который подчас тиражируется и рядом современных исследователей, стала идея о том, что оккупационная и коллаборационистская пропаганда носила резко негативный характер по отношению к социализму и революции, в том числе к Российской революции 1917 г. Аналогичная ситуация с термином «социализм».
Необходимо помнить, что господствующей идеологией в Германии был национальный социализм, поэтому антисоциалистические материалы базировались на тезисе о существовании в Германии «правильного» национального социализма и «неправильного» интернационального социализма в Советском Союзе. Социалистические идеи были якобы «извращены евреями»332, что и привело к дискредитации идеи «истинного» социализма.
Сам термин «революция» также не носил a priori негативного характера в оккупационной и коллаборационистской пропаганде; то же можно сказать и о термине «социализм». Наоборот, противостояние «правильных» революции и социализма «неправильным» было одним из столпов пропаганды. В основе идеологий фашизма и национал-социализма в обобщающем виде лежит известный концепт «консервативной революции». В изображении ее идеологов «консервативная (национальная) революция» основана на экспрессии и брутальности, как и интернациональная (футуристическая) революция, но, в отличие от последней, носит фольклорный, народный характер. Но оба вида революции едины концептуально: им враждебен «обыватель» и свойственен анонимный террор, образы юности, смерти, мужества, бесстрашия, бунта333. Эти же идеи мы видим на страницах коллаборационистских изданий: фашизм334 и нацизм335 представлялись как подлинно революционные движения.
Образ Революции, безусловно, был одним из важнейших факторов в советском обществе. В контексте нашего очерка отметим, что образ революции выполнял для советского общества накануне и в начальный период Великой Отечественной войны 3 основные функции. Во-первых, это легитимация и легализация действующего режима в глазах населения. Во-вторых, революционные образы и практики служили основой пропаганды и довоенной идеологии. Важно, что именно эта функция лежала в основе «революционного пафоса», столь важного, прежде всего, для молодого поколения, в том числе таких легендарных его представителей, как герои-краснодонцы («Молодая гвардия»). В-третьих, революция была основополагающим элементом социальных бенефициаров так называемых «завоеваний революции». Даже признанные идеологи антисоветской эмиграции признавали336, что значительная доля советского общества выиграла от революции, стала социальными бенефициарами советской внутренней политики или получила определенные выгоды от сотрудничества с режимом.
Таким образом, перед оккупационной и коллаборационистской пропагандой, и, прежде всего, периодической печатью, стояло две основные задачи: нейтрализация «революционного пафоса» (то есть выбивание краеугольного камня советской идеологии и пропаганды); присвоение «завоеваний революции» (не допустить активного отторжения «нового порядка» со стороны социальных бенефициаров советского режима).
В периодической печати можно, в связи с этим, выделить 4 основных концепта.
1. Противопоставление «народной революции» «узурпаторам революции»337. Критика советского режима проводилась и с помощью таких знаковых революционных фигур, как Владимир Маяковский. К очередной годовщине гибели поэта многие газеты опубликовали на своих страницах очерки о нем. В основном это были перепечатки статьи в газете «Заря» или переработанные очерки. Идеализированный образ В. Маяковского представлялся, прежде всего, борцом с советской (или сталинской) бюрократией, с монополией ВКП(б) на культурную политику. Авторы доказывали, что Маяковский стремился к «истинному социализму, который был построен в Германии», а не к казарменной системе Сталина338. Декларировался отказ истинных революционеров от постреволюционной действительности: «Маяковский оборвал свою жизнь потому, что увидел, что является жертвой ложной идеи… Трагедия Маяковского – трагедия целого поколения советских людей, слепо шедших за Лениным и убедившихся, что они обмануты его преемниками»339. Однако чаще продвигалась идея борьбы абстрактного народа с конкретной (сталинской) властью340.
2. Извращение идей революции антинародными элементами. Прежде всего, евреями. «Каторжный социализм» (термин, взятый по названию одной из пропагандистских брошюр и повсеместно использовавшийся в оккупации) был навязан России в результате Октябрьской революции 1917 г., которая «являлась целиком делом рук евреев», которые использовали искренние чаяния народа341. Формальные завоевания Октябрьской революции критике не подвергались, но подчеркивалось, что «народ был обманут», а результаты революции были «извращены евреями». Октябрьская революция разрушила старую Россию, которая «словно молодой многообещающий атлет… легко мчалась вперед», разорвала исторические связи с Европой, «уничтожила русскую культуру»342. Отмечалось, что эксцессы революции были лишь одним из проявлений «жажды к разрушению» и уничтожению, присущей именно большевикам. Неспособные к созидательной работе, они после победы в гражданской войне «над русским народом» принялись уничтожать друг друга343. Кроме того, отмечалось, что с самого начала установления советского режима была создана система «ЧК-ГПУ-НКВД … кровавого органа ленинско-сталинской власти»344, которая должна была стать единственной опорой режима. Отношение к дореволюционной России со стороны оккупационных пропагандистских структур было сдержанным, а на местах во многом зависело от личных предпочтений редактора или автора статьи. Характерным примером можно назвать позицию к расстрелу царской семьи в 1918 г. Оно осуждалось не как цареубийство, что могло быть истолковано как симпатии к монархии, а, скорее, как убийство беззащитных женщин и детей345.
3. Из предыдущего логично вытекал концепт сохранения всех истинных «завоеваний революции» и «правильное» перераспределение их. Для оккупантов было важным подчеркнуть, в связи с этим, два тезиса:
а) преимущества социалистического строя и завоеванные в ходе революции блага никак не связаны с большевистской партией346;
б) значительное количество благ было «украдено у народа», следовательно, их необходимо «вернуть народу» путем свержения власти347.
4. Несколько позже, с момента институционального оформления политического коллаборационизма, появляется концепт «наследников революционных традиций». Часть коллаборационистов стремилась трансформировать идеи национал-социализма для «освобожденных территорий», считая, что «революционный национализм» является самой современной и успешной идеологией348. В публичных выступлениях часто провозглашалось, что «идеи национал-социалистической Германии и идеи Новой России едины» (Б. Каминский)349. К концу войны ориентация на национал-социалистические установки была практически полная, в том числе со стороны изданий, декларировавшихся как «органы Русского освободительного движения»350. Значительно меньшее внимание русские газеты уделяли фашизму, который, тем не менее, назывался «предвестником нового творческого порыва, который положил начало будущему возрождению»351. Цели «власовского движения» были громкими, но декларативными, абстрактными и непонятными широким слоям населения: «движение генерала Власова является продолжением национальной революции и ее завершением в истинных интересах народа»352. Местные газеты публиковали краткое содержание документов и воззваний, которое сводилось к «защите Отечества от большевизма, строительству национального государства без большевиков и капиталистов, завершению национальной революции в интересах русского народа»353.
Применение подобных концептов должно было способствовать решению трех основных задач:
1) упрощение морального выбора для действующих и потенциальных коллаборационистов;
2) легитимация сотрудничества с оккупационным режимом и коллаборационистскими структурами;
3) теоретически оставляла возможность для части советской элиты пойти на сотрудничество с нацистами в случае поражения СССР.
Противодействие советской пропаганды подобным тенденциям было затруднено, особенно в начальный период Великой Отечественной войны, с одной стороны, причинами идеологического характера (инертность, идеологический догматизм). С другой стороны, население не имело возможности критично относиться к оккупационной и коллаборационистской пропаганде, не могло ее верифицировать.
Однако все вышеназванные аспекты потеряли смысл вследствие двух факторов: начало контрнаступления советских войск и переход советской идеологии и пропаганды на национально-патриотическую аргументацию. Последнее сделало революционные темы второстепенными и неактуальными.
Карикатурное отображение утопических идей Русской революции в романе-антиутопии Е.И. Замятина «Мы». Образ будущего России глазами левого эсера
Каташов А.А.
Аннотация. Е.И. Замятин, основываясь на идеях, поддерживаемых им Левых эсеров, в 1920 г. написал роман-антиутопию «Мы». Роман содержит четкое отражение исторических реалий. Взяв за основу антибольшевистскую концепцию «третей революции» левых эсеров, Замятин повествует о борьбе повстанцев за т.н. «четвертую революцию», целью которой должно быть освобождение народа от оков Единого государства.
Ключевые слова: Е.И. Замятин, роман-антиутопия «Мы», Гражданская война, левые эсеры, антиутопия, конфронтация политических сил, отражение политики в литературе; образ будущего.
A CARICATURE OF THE UTOPIAN IMAGES OF THE RUSSIAN REVOLUTION IN THE ANTI-UTOPIA NOVEL OF Y.I. ZAMYATIN “WE”. IMAGE OF THE FUTURE OF RUSSIA THROUGH THE EYES OF THE LEFT SR
Katashov A.A.
Annotation. Evgeny Zamyatin wrote "We" in 1920. The novel contains a clear reflection of historical realities. Supporting the ideas of the Party of Left Socialist-Revolutionary Internationalists during the Civil War, Zamyatin reflects ideas in the form of struggle against the "fourth revolution", which is designed to liberate the human person no longer from the shackles of private property (this was achieved by previous revolutions), but from the power of the totalitarian state: a hint at the concept of the "third revolution", the antitotalitarian anti-Bolshevik revolution of the Left Socialist-Revolutionaries and anarchists.
Key words: E. Zamyatin; the dystopian novel "We"; the Civil war; Left SRS; dystopia; Confrontation of political forces, a Reflection of politics in literature; the image of the future.
Евгений Иванович Замятин в своем романе-антиутопии «Мы» карикатурно показал возможный этап реализации идей Октябрьской революции. Показав предполагаемое общество далекого будущего, он высмеял утопический строй «Единого государства».
Роман-антиутопия, написанный в 1920 г., был издан в СССР лишь в годы Перестройки в журнале «Знамя». Отечественные литературные критики крайне негативно восприняли появление «Мы», посчитав произведение глумлением над идеологией молодой Советской России. Цензуре не по душе пришлись аллюзии на события Гражданской войны и Революции. Во второй половине 1920-х гг. началась травля писателя со стороны органов литературной цензуры354.
Концептуально роман выдержан в виде дневника главного героя – незаурядного математика и инженера, строителя сверхсовременного космического корабля «ИНТЕГРАЛ».
Карикатурное отражение в романе идей Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б))Общественный строй в романе представлен утопическим Единым Государством – тоталитарным государственным образованием, объединившим под своим началом весь мир. В данном явлении можно увидеть прямую связь с идеями Коммунистического интернационала.
Третья революция принесла жителям Утопии полную победу над капиталистическим строем и приход к власти «избираемого» на безальтернативной основе Благодетеля, под тотальным контролем которого живет практически весь мир. Что это, если не цель марксизма-ленинизма?
Описываемое в романе абстрактное единое государство способствовало практически полной потере идентичности среди населения. У людей отсутствуют имена, замененные на т.н. нумера – индивидуальные коды, по которым люди и обращаются друг к другу при общении. Одежду полностью заменила одинаковая для всех юнифа, а естественные продуты питания – искусственная пища. Часы отдыха проходят за маршем под звуки гимна Единого государства, издаваемые музыкальными заводами. Все сферы общественной жизни находятся под чутким надзором специализированных органов – «Хранителей». Даже дома сделаны стеклянными, чтобы практически целые сутки можно было следить за поведением людей. Шторы можно опустить лишь в определенные секс-часы, когда по взаимной договоренности нумера разных полов заранее заполняют страницы в специальной книжке, т.к. институт семьи упразднен.
Гнет и всеобъемлющий контроль над личностью – так видел Замятин будущее Советской России. По мнению писателя замысел «машинизированного» будущего, где в пользу техническому прогрессу полностью опускается нравственное и духовное развитие, сильно вредит обществу, уничтожает человечность такого общества.
В бытности инженером Е.И. Замятин был командирован в Великобританию, где на него произвело огромное впечатление машинизированное производство. На основе «механического бытия, доведенного до совершенства» Е.И. Замятин и написал роман «Мы»355.
Соотнеся идеи марксизма-ленинизма, революционную российскую действительность и английское глобальное внедрение машин, крушащиеся на фоне этого всего нравственные и духовные ценности, Замятин смог нарисовать утопическую действительность Единого Государства, основным принципом которого стала несовместимость свободы и счастья.
Отражение идей партии левых социалистов-революционеров-интернационалистов (левые эсеры)В антитезу Единому Государству Замятин ставит повстанцев, ведущих борьбу за «четвертую революцию», которая призвана освободить человеческую личность уже не от оков частной собственности (этого добились предыдущие революции), а от власти тоталитарного государства. Тут можно четко проследить концепцию «третей революции», антитоталитарной антибольшевистской революции левых эсеров и анархистов. Именно в таком виде нашла отражение в романе политическая ориентация Евгения Ивановича, поддерживавшего в годы Гражданской войны идеи Партии левых социалистов-революционеров-интернационалистов356.
Приведу цитату из текста: «Запись 30-я.
Я вскочил:
– Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете, – это революция?
– Да, революция! Почему же это нелепо?
– Нелепо – потому что революции не может быть. Потому что наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому…
Насмешливый, острый треугольник бровей:
– Милый мой, ты – математик. Так вот, назови мне последнее число.
– То есть?.. Какое последнее?
– Ну, последнее, верхнее, самое большое.
– Но, I, это же нелепо. Раз число чисел бесконечно, какое же ты хочешь последнее?
– А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней – нет, революции – бесконечны. Последняя – это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо – чтобы дети спокойно спали по ночам…»357.
Рассказчик, Д-503, талантливый инженер, живет в постоянном страхе, ощущая себя в плену атавистических желаний. Он влюбляется (а это, конечно, преступление) в некую I-330, члена подпольного движения сопротивления, которой удается на время втянуть его в подготовку мятежа. Вспыхивает мятеж, и выясняется, что у Благодетеля много противников; эти люди не только замышляют государственный переворот, но и за спущенными шторами предаются таким чудовищным грехам, как сигареты и алкоголь.
Революционеры готовят неслыханный по дерзости план – захватить только что построенный «ИНТЕГРАЛ» и направить сопла его двигателей на город. Д-503, одержимый чувствами к I, активно содействует. Однако во время первого полета, когда «ИНТЕГРАЛ» должен перейти в руки Мефи (революционеры), на борту несколько скрывавшихся Хранителей заявляют, что власти в курсе коварного плана. Как только Мефи видят, что им не удастся застать силовиков врасплох, они отменяют операцию.
Неожиданно сам Благодетель удостаивает Д-503 своей аудиенции. Впервые пообщавшись с Благодетелем, герой видит, что это достаточно пожилой и утомленный жизнью, но в принципе не слишком примечательный нумер. Очевидно, что он – такой же раб системы Единого Государства, как и любой другой, пусть даже формально именно он возглавляет Государство. Как главного инженера, героя щадят и ограничиваются картинным увещеванием. Одновременно с этим Благодетель наносит убийственный удар запутавшемуся Д: для I-330 он не был возлюбленным, он использовался только в качестве главного инженера «ИНТЕГРАЛа».
В конечном счете Д-503 удается избежать последствий своего безрассудного шага. Единое Государство наносит ответный удар, власти объявляют, что причина недавних беспорядков установлена: оказывается, ряд людей страдают от болезни, именуемой фантазия – отныне все население должно подвергнуться «Великой Операции», психосоматической процедуре по удалению (при помощи X-лучей) мозгового «центра фантазии». Прошедшие операцию фактически становятся биологическими машинами.
В свою очередь, Мефи взрывают Зеленую Стену и отключают невидимый купол силового поля. Шокированные широким вторжением дикой природы, множество нумеров впадают в массовый психоз, невообразимую эйфорию. Многие совокупляются, не опуская штор (в знак презрения к закону Сексуального Часа).
Д-503 подвергается операции, после чего ему легко совершить то, что он всегда считал своим долгом, то есть выдать сообщников полиции. В полном спокойствии наблюдает он, как пытают I-330 под стеклянным колпаком, откачивая из-под него воздух.
«Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так повторялось три раза – и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля»358.
Единое государство победило революционные идеи, главные бунтари были казнены, и все встало на круги своя.
Соединив в своем романе идеологию марксизма, реалии эпохи Октябрьской революции и Гражданской войны в России, а также свое ощущение от механизированной Англии Евгений Иванович Замятин написал возможный образ будущего Советской России. Его произведение восприняли как насмешку и не стали публиковать, а сам Замятин в скором времени эмигрировал.
Делая вывод, хочу сказать о том, что во все времена революционные события всегда влияли на творчество. Наша история знает множество писателей и поэтов, в творчестве которых ярким пятном отразились идеи революции.
Может быть, если бы Замятин не поддерживал в 20-е гг. XX в. левых эсеров, то он бы написал «Мы» совершенно по-другому. А был бы этот роман написан вообще? На этот вопрос мы не найдем ответа.
Роман-антиутопия «Мы» имел влияние на творчество и Олдоса Хаксли, и Джорджа Оруэла, создавших популярнейшие антиутопии XX в.359
Н. Бердяев: правда и ложь Великой русской революции
Короткий Г.А.
Аннотация. Статья посвящена рецепции русским философом Николаем Бердяевым революции 1917 г. Автор полагает, что бердяевский анализ причин революционных событий и постреволюционной ситуации представляет интерес сегодня, когда вопрос об их объективной интерпретации сохраняет свою актуальность.
Ключевые слова: Русская революция, Николай Бердяев, причины Октября, коммунистический проект, пост-революционная ситуация.
N. BERYAEV: THE TRUTH AND LIES OF THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION
Korotkiy G.A.
Abstract. The article is devoted to the reception of the Revolution of 1917 by Russian philosopher Nikolai Berdyaev. The author supposes that Berdyaev’s analysis of the causes of the revolutionary events and the post-revolutionary situation is interesting today, when there is a problem of the objective interpretation of them. And this problem remains valid.
Key words: Russian revolution, Nikolai Berdyaev, Red October causes, Communist project, post-revolutionary situation.
Волей судьбы один из самых известных русских философов Николай Александрович Бердяев оказался непосредственным свидетелем и даже участником происходивших в России революционных событий. Размышления на тему русской революции впоследствии займут важное место в его творчестве. А проведенный философом исторический анализ причин, успехов и неудач Великой Революции до сих пор не утрачивает актуальности.
Осмысление Бердяевым происходящего облегчал тот факт, что со многими революционными деятелями той эпохи (А.В. Луначарским, Л.Б. Каменевым, А.А. Богдановым, Г.В. Плехановым) он был знаком лично. Много общался с ними и спорил. В разные жизненные периоды он то участвовал в марксистском движении, то вставал по отношению к нему в непримиримую оппозицию. Частую смену своих политических взглядов он объясняет принципиальной адогматичностью своей мысли, при этом настаивая на том, что эти колебания отражают трудный путь интеллектуального исследования и духовного самопознания, замечая, что он сожалеет о людях, которым всегда «изначально все ясно»… А такие есть в каждом из политических лагерей.



