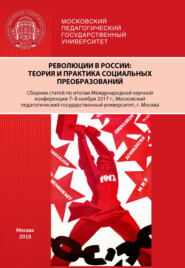 Полная версия
Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований
Воронин В.Е.
Аннотация. В статье дан анализ эволюции идеи Учредительного собрания в радикальных общественно-политических кругах России начала XX в. Показана роль идеи Учредительного собрания в контексте трансформации российской государственности от самодержавия к Думской монархии, а затем – к революционно-социалистическим моделям политического строя.
Ключевые слова: Россия, реформа, революция, государственный строй, самодержавие, конституция, Учредительное собрание.
THE REFORM OR THE REVOLUTION? THE IDEA OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY IN THE CONTEXT OF PLANS FOR A RADICAL RENEWAL OF THE STATE SYSTEM IN RUSSIA AT THE BEGINNING OF XX CENTURY
Voronin V.E.
Abstract. In the article the analysis of the evolution of the concept of the Constituent Assembly in the radical political circles of Russia the beginning of XX century. The role of the idea of the Constituent Assembly in the context of transformation of the Russian state from autocracy to a parliamentary monarchy, and then to the revolutionary socialist models of political system.
Keywords: Russia, reform, revolution, political system, autocracy, Constitution, Constituent Assembly.
В последние два десятилетия XIX в. «всесильный» обер-прокурор Синода, стойкий консерватор и апологет незыблемого самодержавия К.П. Победоносцев порой представал перед своими высокопоставленными современниками в необычной для себя роли чиновного нигилиста. По свидетельству Е.М. Феоктистова – главного цензора Российской империи тех лет, когда Победоносцеву «возражали, что бездействие правительства должно привести Россию к страшным бедствиям, – в ответ на это он приводил странный аргумент, он указывал на то, что никакая страна в мире не в состоянии была избежать коренного переворота, что, вероятно, и нас ожидает подобная же участь и что революционный ураган очистит атмосферу»434. Иными словами, один из ключевых деятелей правительственного лагеря давал понять, что предпочитает революцию любым иным попыткам усовершенствования самодержавного строя. В ответ один из собеседников обер-прокурора «весьма основательно заметил ему на это, что если все государства подвергались революционным потрясениям, то не было еще примера, чтобы правительство, так сказать, включало революцию в свою программу…»435.
По грустной иронии судьбы, дальнейшие шаги монархической власти во внутренней политике способствовали успешному воплощению этого «программного» принципа. 17 января 1895 г. император Николай II в речи перед земскими депутациями назвал «бессмысленными мечтаниями» звучавшие «в некоторых земских собраниях» призывы допустить участие земцев «в делах внутреннего управления» и заверил общество, что, подобно своему отцу, будет «охранять начала самодержавия»436. Тем самым царь в конце XIX в. официально отрекся от обещания даровать стране конституцию, данного его предшественником – императором Александром I еще в начале того столетия. Есть версия, что царь допустил «досадную» оговорку, сказав о «бессмысленных мечтаниях» вместо «беспочвенных», как это было в заготовленном тексте речи. Историк-эмигрант С.С. Ольденбург, однако, обосновывал правомерность царских слов стремлением Николая II подтвердить преемственность курса на укрепление самодержавной власти, провозглашенного в манифесте Александра III 29 апреля 1881 г.437 Но данная параллель представляется не вполне уместной. Александр III вступал на престол после цареубийства – в условиях жестокого противоборства между правительством и революционной партией, и манифест о незыблемости самодержавия, подчеркивавший твердую и непреклонную волю верховной власти, способствовал успокоению умов. В свою очередь, воцарение Николая II пришлось на относительно мирный период, но царская речь о «бессмысленных мечтаниях» быстро привела к сплочению всех антиправительственных – революционных и либерально-оппозиционных – сил, открыто провозглашавших свой главный политический девиз: «Долой самодержавие!».
Совещание оппозиционных и революционных партий в Париже 30 сентября – 9 октября 1904 г. высказалось за ликвидацию самодержавия и его «замену свободным демократическим режимом на основе всеобщей подачи голосов», а также за прекращение «насилия со стороны русского правительства по отношению к отдельным нациям» и «право национального самоопределения»438. Так была сформулирована общая идейно-политическая платформа революционеров и либеральной оппозиции, отстаивавшаяся ими в ходе революции 1905 г. Земский съезд в Петербурге 6–9 ноября 1904 г. отверг идею законосовещательного представительства и проголосовал за создание выборной «законодательной власти» с правами принимать государственный бюджет и осуществлять «контроль за законностью действий администрации». Часть земцев высказывалась за создание «учредительного органа», которому предстояло бы разработать «политическую реформу». Будущий лидер кадетской партии П.Н. Милюков был доволен тем, что съезд одобрил этот замысел «в завуалированной форме»439. Так планы принятия конституции посредством Учредительного собрания стали неотъемлемой, хотя и несколько «завуалированной» частью программы земско-либерального движения. Более радикальная и близкая как к леволиберальным, так и к революционно-социалистическим силам, «демократическая» интеллигенция рубежа XIX–XX вв. изначально признавала Учредительное собрание и республику вполне приемлемыми формами переустройства России. Представители «демократической» интеллигенции – составители гапоновской «Петиции рабочих и жителей Петербурга», предназначавшейся для подачи Николаю II 9 января 1905 г., – включили в нее, наряду с социальными чаяниями пролетариев, требования проведения «выборов в Учредительное собрание» посредством «всеобщей, тайной и равной подачи голосов», политических свобод и «ответственности министров перед народом»440.
В 1905–1906 гг., пойдя на крупные политические уступки, Николай II, тем не менее, удержал за собой учредительные права. Манифест 17 октября 1905 г. даровал народу «незыблемые основы гражданской свободы», а учреждаемой Государственной думе – законодательные и контрольные функции441. Основные государственные законы Российской империи, подписанные царем 23 апреля 1906 г., превращали Россию в конституционную («Думскую») монархию. Законодательная власть принадлежала отныне не только государю императору, но и законодательным палатам – выборной Государственной думе и наполовину выборному Государственному совету. Выборы производились на куриальных началах. Наиболее «цензовыми» были выборы в Государственный совет. Роль Сената соответствовала статусу конституционного суда; Сенат не должен был допускать издания актов, противоречивших Основным законам. Но в то же время в руках государя императора оставалась вся полнота исполнительной власти, ему подчинялось высшее военное командование. Кроме того, власть царя по-прежнему именовалась «самодержавной» (ст. 4)442, хотя и не считалась более «неограниченной».
Вопреки изданной монархом новой редакции Основных законов, оппозиционное большинство I Государственной думы во главе с кадетами настаивало на наделении Думы «учредительной властью». Оно добивалось от императора:
• одобрения аграрной программы, которая предусматривала бы «принудительное отчуждение» помещичьей земли;
• «образования ответственного министерства из думского большинства»;
• всеобщей политической амнистии;
• введения всеобщего избирательного права;
• принятия «учредительной властью Думы», с согласия царя, «новой конституции»;
• «отмены Государственного совета».
Доверенное лицо Николая II – дворцовый комендант генерал Д.Ф. Трепов, который в июне 1906 г. обсуждал политические требования оппозиции на переговорах с П.Н. Милюковым, не высказал возражений ни по одному из пунктов, касающихся собственно реформы политического строя. Он лишь пожелал, чтобы «дополнительный надел» дал крестьянам «царь, а не Дума», и протестовал против помилования «цареубийц»443. Однако бескомпромиссная позиция Думы, избравшей тактику «штурма власти», привела к ее роспуску в июле 1906 г. Это решение царя полностью соответствовало Основным законам.
Правда, при роспуске II Думы 3 июня 1907 г. Николай II и премьер П.А. Столыпин решились на «государственный переворот», так как, в нарушение ст. 87 Основных законов, монарх произвольно изменил закон о выборах в Думу. Порядок избрания депутатов был признан несовершенным, а состав Думы – «неудовлетворительным». Поэтому царь отказывался проводить новый избирательный закон «обычным законодательным путем». Правительство не имело никакой возможности заручиться поддержкой прежнего депутатского корпуса, ибо по новому закону вместо крестьянства и городской интеллигенции доминировать в Думе должны были крупные землевладельцы и крупная городская буржуазия. «Крестьянская» Дума стала «господской». Царь вновь заявлял о своих учредительных правах, вытекавших из официального определения его власти как «самодержавной». В связи с заменой старого избирательного закона новым, высочайший манифест 3 июня 1907 г. подтверждал верховенство «исторической власти русского царя», врученной «от Господа Бога»444.
«Конституционное самодержавие» Николая II порождало очень двусмысленное толкование характера тогдашнего политического строя России. С одной стороны, законодательные права выборного представительства сами по себе являются атрибутом конституционного государства. С другой – в ближайшем окружении Николая II царскую власть продолжали считать абсолютной. Так, императрица Александра Федоровна, имевшая огромное влияние на политику правительства, не раз повторяла, что «Россия, слава Богу, не конституционная страна» и что «Царь правит, а не Дума», и призывала царственного супруга быть «властелином»445. Между тем, в политических кругах, а во время Мировой войны – и в рядах генералитета, укоренилось мнение о невозможности, говоря словами А.А. Брусилова, «продолжать сидеть на двух стульях и одновременно сохранять и самодержавие и конституцию в лице законодательной Думы». Наилучшим выходом из долгого политического кризиса многим в ту пору представлялось согласие царя дать «настоящую конституцию с ответственным министерством»446. 9 февраля 1916 г., после речи Николая II в IV Думе, председатель Думы М.В. Родзянко призвал царя воспользоваться «этим светлым моментом» и «здесь же» объявить об «ответственном министерстве». «Об этом я еще подумаю»447, – ответил монарх.
Однако несколькими месяцами ранее – в августе 1915 г., во время «великого отступления» русской армии на германском фронте, думское оппозиционное большинство, объединившееся в Прогрессивный блок, а также либерально настроенные общественные деятели, сплотившиеся вокруг Всероссийского Земского союза и Союза городов, и политически активная буржуазия, образовавшая свои военно-промышленные комитеты, начали подготовку переворота. Ими был составлен список членов так называемого «министерства доверия». О радикализации либерального лагеря свидетельствовал отказ от лозунга «ответственного министерства», то есть кабинета, ответственного перед Думой, в пользу «министерства доверия», то есть правительства, состав и программа которого должны быть одобрены общественными силами. При этом лидеров Прогрессивного блока не смущал такой туманный порядок формирования правящего кабинета, где недостаток правовых процедур легко мог быть восполнен «революционной целесообразностью». Дума уже не рассматривалась ими в качестве органа, правомочного решать вопросы политического переустройства России. «“Министерство доверия” страны, – признавался впоследствии П.Н. Милюков, – представляло больше перспектив, нежели “министерство ответственное”… перед Четвертой Думой (…) “Ответствовать” было не перед кем: вопрос стоял о “доверии”»448. Правда, оставалось неясным, какие именно учреждения могли быть признаны отражением мнения «страны». Вероятно, главными претендентами на эту роль выступали Земский союз и Союз городов. Но циничные рассуждения лидера кадетов дают основания полагать, что вожди либеральной оппозиции собирались присвоить себе право управлять «страной» от ее же имени. На пост главы «кабинета» поначалу предназначался председатель Думы М.В. Родзянко. Однако собрание деятелей либеральной оппозиции и социалистических партий в апреле 1916 г., по настоянию Милюкова, решило отдать премьерство председателю Земского союза князю Г.Е. Львову как полномочному представителю более широких, по сравнению с Думой, кругов «общества». Вспоминая об этом своем успехе, Милюков писал: «Политическая роль, которую Дума играла, так сказать, по молчаливому передоверию, должна была перейти к русской общественности (…) В этом смысле смена Родзянки князем Львовым была первым революционным шагом…»449.
Таким образом, примерный состав будущего первого Временного правительства («министерства доверия») стал известен публике задолго до Февраля 1917 г. Но соглашаясь на «первый революционный шаг», вожди либеральной оппозиции невольно открывали широкий простор для «революционного творчества масс». Выразителем воли «русской общественности» мог стать любой неформальный или самозванный «общественный» орган, что на практике означало бы не только уничтожение старого государственного строя, но и утрату каких-либо представлений о законном порядке как таковом.
Предначертания вождей либеральной оппозиции и представителей революционно-социалистических сил осуществились в Феврале 1917 г. Однако Временному правительству не было суждено стать «министерством доверия», вместо последнего Петроград и вся Россия получили Двоевластие, в условиях которого произошло стремительное возрождение идеи Учредительного собрания. Еще днем 27 февраля 1917 г. – до окончательной победы революции в Петрограде и отречения Николая II – часть депутатов IV Думы предлагала «объявить Думу Учредительным собранием»450, но этот замысел не нашел поддержки ни в Таврическом дворце, ни тем более за его пределами; а события Февраля привели к фактическому самороспуску Государственной думы. Однако идея Учредительного собрания не только не была снята с повестки дня, но и стала ключевой для будущего политического переустройства России. Временному правительству, которое уже в первый день своего существования – 2 марта 1917 г. – пережило первый кризис, вызванный разногласиями с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов по вопросу о «форме правления», не без труда удалось достичь с вождями Совета компромисса, предполагавшего созыв Учредительного собрания для «разрешения вопроса о конституции»451. А.Ф. Керенский, ставший министром юстиции в первом составе Временного правительства, высокопарно клялся, что Временное правительство передаст «священный сосуд» верховной власти «Учредительному собранию, не пролив из него ни одной капли»452. Призыв к скорейшему созыву Учредительного собрания, которое надлежало всенародно избрать путем «всеобщего, прямого, равного и тайного голосования» и которому следовало «установить образ правления и новые основные законы Государства Российского», находим в весьма странном, с юридической точки зрения, акте об отказе великого князя Михаила Александровича от престола от 3 марта 1917 г.453 В этом акте, подписанном по настоянию деятелей нового режима, несостоявшийся царь, однако, объявлял о порядке избрания и компетенции будущего Учредительного собрания. Свергнутый и отрекшийся от престола император Николай II крайне неодобрительно отозвался о санкционированном в «манифесте» брата созыве Учредительного собрания, избираемого на основе «четыреххвостки»454. «Бог знает, – писал последний царь в дневнике, – кто надоумил его подписать такую гадость!»455.
После крушения старой государственно-правовой системы и появления различных центров силы созыв Учредительного собрания уже не мог привести к мирному реформированию государственного и общественного строя России. В стране сохранялось Двоевластие. Противоборствующие стороны – Временное правительство и Советы – ни на миг не теряли надежду решить вопрос о власти в свою пользу, не дожидаясь созыва Учредительного собрания. Выборы в Учредительное собрание неоднократно откладывались как по причине неготовности властей к столь широкомасштабному мероприятию, так и вследствие желания Временного правительства обеспечить оптимальные для себя условия созыва учредительного органа власти. Правда, промедление в данном деле и стратегия «непредрешения» все более дискредитировали Временное правительство. Вскоре после подавления Корниловского мятежа, 1 сентября 1917 г., самозваный и бессильный диктатор А.Ф. Керенский решился провозгласить Россию республикой, предвосхищая волю Учредительного собрания. Этот шаг стал крупным прецедентом в деле ограничения прав Учредительного собрания временной властью. Большевики, взявшие власть в Октябре, а затем заявившие Учредительному собранию свое ультимативное требование признать Россию «Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» и ограничить свою деятельность «общей разработкой коренных оснований социалистического переустройства общества»456, выступили лишь продолжателями (хотя и довольно радикальными) этой не ими заведенной традиции.
Низложение Временного правительства и переход власти к большевизированным Советам означали разрешение многомесячного политического кризиса в столице и, в то же время, переход к открытой фазе гражданской войны. Ответом на «октябрьский переворот» явился антисоветский мятеж генерала А.М. Каледина на Дону, а в декабре 1917 г. на Юге России была создана Добровольческая армия под командованием генералов М.В. Алексеева и Л.Г. Корнилова. С этого момента победитель в политическом противоборстве, переросшем в гражданскую войну, мог быть выявлен отнюдь не в ходе парламентских прений, а на полях сражений. Таким образом, Учредительное собрание стало, по определению большевистской фракции, «вчерашним днем революции»457 еще до своего открытия.
В условиях начавшейся в стране гражданской войны Советское правительство, составленное из большевиков и левых эсеров, не желало иметь в столице собрание недовольных граждан, претендующих на верховную власть. Однако всеми признанная необходимость скорейшего созыва Учредительного собрания сделала Советскую власть заложницей этой «демократической» процедуры. Л.Д. Троцкий вспоминал, что В.И. Ленин предлагал коллегам «отсрочить выборы», чтобы «обновить избирательные списки». При этом речь шла, очевидно, отнюдь не только о партии эсеров, расколовшейся на правых и левых. Ленин считал, что большевистские списки «никуда не годятся: множество случайной интеллигенции, а нам нужны рабочие и крестьяне». Наконец, он настаивал на том, что «корниловцев, кадетов надо объявить вне закона». Но советский премьер не был поддержан собственным кабинетом. Оппоненты Ленина считали отсрочку выборов неудобной, ибо «это будет понято как ликвидация Учредительного собрания, тем более что мы сами обвиняли Временное правительство в оттягивании Учредительного собрания». Ленин предупреждал об опасности появления «кадетски-меньшевистски-эсеровского» Учредительного собрания, но его соратники (в первую очередь, тесно «связанный с провинцией» Я.М. Свердлов) констатировали, что для переноса выборов «сейчас мы еще слишком слабы. О Советской власти в провинции почти ничего не знают. И если туда теперь же попадет весть о том, что мы отсрочили Учредительное собрание, это нас ослабит еще более». В то же время они полагали, что к моменту открытия Учредительного собрания «мы будем сильнее». Ленин уступил, но остался при своем мнении, считая принятое решение «явной ошибкой», которая может стоить «революции головы», и направил свои усилия, по свидетельству Троцкого, «на организационные меры, связанные с осуществлением Учредительного собрания»458.
Итоги выборов в Учредительное собрание были неутешительными для большевиков: почти 39,5% голосов избирателей и большинство мест получили эсеры; за большевистскую партию, ставшую формально второй политической силой страны, было подано почти 22,5% голосов, давших ей около четверти мест459. Альянс большевиков с левыми эсерами также не дал Советскому правительству большинства в Собрании. Но явная несправедливость правых эсеров в отношении левых, которым, согласно устаревшим партийным спискам, пришлось баллотироваться вместе со своими бывшими однопартийцами и которые «были кругом обмануты»460, позволяла Советской власти не признавать в полной мере легитимность и правомочность всенародно избранного учредительного органа, обусловив их признанием легитимности и правомочности советских учреждений. Эта позиция Советского правительства была отражена в тексте «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Принятие этой ультимативной по духу «Декларации…» Учредительным собранием привело бы на практике или к его самороспуску, или к превращению Собрания в декоративный орган по подготовке советского конституционного законодательства, а его правоэсеровского большинства – в союзников Ленина и Советской власти. Для правосоциалистических партий это, вероятно, был последний шанс влиться в ряды советской, пока еще – многопартийной – политической системы.
Впрочем, судя по мемуарам Троцкого, вождь Октября не верил в возможность сотрудничества с Учредительным собранием и заранее начал готовиться к его разгону. Однако формальную легитимность этому шагу могла придать только поддержка левых эсеров, оспаривавших право своих бывших товарищей по партии считаться победителями на прошедших выборах. «Надо, конечно, разогнать Учредительное собрание, – говорил Ленин, – но вот как насчет левых эсеров?»461. Левые эсеры поддержали большевиков.
При этом самым горячим сторонником Ленина оказался Марк Андреевич Натансон – один из старейших революционеров, сыгравший большую роль в сплочении революционно-социалистических сил (народников, эсеров, социал-демократов и др.) ради их совместной борьбы против самодержавия и за социалистические преобразования в стране. В ноябре 1917 г. Натансон – сторонник «октябрьского переворота» – инициировал создание отдельной партии левых эсеров, а затем выступил за коалицию с большевиками. Когда решалась судьба Учредительного собрания, «старик Натансон», по словам Троцкого, «очень утешил» большевистских лидеров; он первым предложил им давно напрашивавшееся решение проблемы. Зайдя «посоветоваться», Натансон без обиняков заявил Ленину: «А ведь придется, пожалуй, разогнать Учредительное собрание силой». Ильич был доволен. «Браво, – воскликнул Ленин. – Что верно, то верно! А пойдут ли на это ваши?». Ответ Натансона был почти утвердительным: «У нас некоторые колеблются. Но я думаю, что в конце концов согласятся». Вскоре согласие левых эсеров было получено462.
Разгон Учредительного собрания, как и другие действия революционного правительства в первые месяцы Советской власти, был вполне выдержан в духе традиций Великой французской и других европейских революций прежних столетий. Революционеры гордились этим сходством и всячески подчеркивали его. Ленин, конечно, не был исключением. Однако в своих деяниях он отдавал предпочтение рациональной мотивации – в ущерб «чистому праву» («юридическому кретинизму») и революционной романтике. Когда Натансон предложил Ленину «присоединить» большевистскую и левоэсеровскую фракции Учредительного собрания к ВЦИКу, преобразовав последний в «Конвент», вождь большевиков недоумевал. Предположив, что собеседник вынашивает свой план «для подражания французской революции», Ленин быстро разрешил возникшее недоразумение: «Разгоном учредилки мы утверждаем советскую систему». Доводы, что Конвент прибавит Советской власти «часть авторитета Учредительного собрания», не подействовали и Натансон «скоро сдался»463. Участь «учредилки» была решена. Вместо нее в стране утверждалась «советская система». Она была рабоче-крестьянской, то есть по-революционному «цензовой» и враждебной «бывшим господствующим классам», исход борьбы с которыми зависел не от расклада голосов, а от воли победителя в гражданской войне.
Итак, идея Учредительного собрания стала важным звеном в процессе трансформации российской государственности от самодержавия к великой социальной революции. Русские оппозиционные и революционные деятели считали Учредительное собрание переходной политической формой, которая должна знаменовать собой передачу верховной власти новому правительству, законодательное закрепление и легитимацию нового политического строя. Тем самым Учредительное собрание представлялось в виде хрупкой грани между Реформой и Революцией. Но в реальности этой грани не существовало. После крушения старого строя Россия жила в условиях Революции и по ее законам.
В.И. Ленин в 1917 г. и проблема «не той» революции (по Ф. Энгельсу)
Горский В.В.
Аннотация. Историческую роль В.И. Ленина как вождя Октябрьской революции невозможно осмыслить в отрыве от принципов его мышления, в основе которых лежала материалистическая диалектика, и применения этих принципов на практике. Данная статья посвящена марксистской диалектике революции, а также ленинскому восприятию и ленинским подходам к практическому применению этой диалектики.

