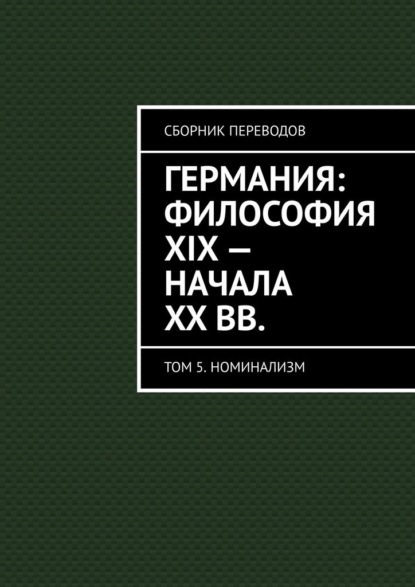
Полная версия:
Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 5. Номинализм
«что понятие рода и вида – это не просто субъективное понятие, придуманное человеческой мыслью для того, чтобы легче различать и называть животных и растительные особи, а объективный, всепроникающий закон становления, образцовая схема, которой природа остается неизменно верна в пределах определенной области органических образований».
Далеко не всегда вид имеет реальность только в случайном или механическом, основанном на естественной причинности соответствии индивидов, входящих в его состав, скорее он сам является реальностью этих индивидуальных образований, поскольку он представляет собой формообразующий принцип их.
Абсолютная неизменность вида в рамках его концепции, которая, разумеется, исключает возможность образования разновидностей, равно как и полного исчезновения вида и замены его новой формой, представляется следующим следствием такой концептуализации. На самом деле многочисленные философы этой школы выступили в качестве противников теорий трансмутации и попытались отстоять догму о видах во всей ее полноте, которая подвергается все более сильным атакам со стороны эмпирического естествознания. Согласно их взглядам, переход от низших форм жизни к высшим должен происходить исключительно в божественном духе, который задает эти виды как «модели»; в мире же природы каждая из этих идей должна быть реализована через особый акт творческой причинности и теперь существовать как самодостаточный, неизменный круг форм, физически не связанный ни с каким другим кругом форм, который представляет собой реализацию своей собственной идеи. Согласно этому, совпадение плана строения в более крупных группах животного и растительного царств указывает на единое происхождение от высшей, то есть более универсальной идеи в сознании Творца, но не на физическую связь, на общее происхождение от одного и того же организма. Позиция этих философов в отношении теории происхождения имеет много общего с уже упомянутой позицией Гегеля и полностью напоминает гегелевский взгляд на преемственность природных образований, который применим только в сфере понятия, когда Фихте утверждает.
«что Джеффри Сент-Илер был прав в той великой фундаментальной концепции, на которой основаны все его работы, что в организации животных существует только один общий план, общая основа (unité de composition organique), которая лишь приняла определенные изменения, чтобы произвести различия видов; – неправ только в том, что он материализовал эту идею идеальной преформации, как бы полагая, что он может предположить фактический переход различных видов друг в друга».
Что касается взгляда Гегеля, то он, кстати, предстает лишь как частное мнение философа, но отнюдь не как неопровержимое следствие его философского принципа; Напротив, идея «внешне реального» филогенеза [филогенетического развития живых существ – wp] также может быть легко включена в систему; более того, эта идея или идея чувственного generatio aequivoca [первобытного порождения без акта божественного творения – wp] даже становится необходимостью, если, как в юнгианской школе, разум рассматривается как «имманентный космическим силам и их отношениям». Но как гегелевская философия, не противореча себе и не отказываясь от своей принципиальной позиции, может пойти на компромисс с научным мировоззрением, так и теистическое мировоззрение, сторонники которого все больше и больше осознают необходимость каким-то образом разобраться с биологическими теориями перестановок. Конечно, теистический взгляд не позволяет перейти к натурализму, поскольку идеи не витают в воздухе (как у Гегеля, где они в конце концов погружаются в материю), а имеют конкретное основание в мыслящей, транс- и супраментальной субъективности Абсолюта; однако ничто не мешает теизму допустить, что гиперфизическая причинность использует уже реализованные идеи, то есть существующие органические типы. Т.е. существующие органические типы, чтобы вызвать к существованию следующие более высокие или концептуально близкие формы, изменив их. Эти реализуемые представления будут тогда конечной причиной изменения первоначальной формы, и преобразование последней не будет предоставлено случайности или действию механических законов природы, а получит направление, заранее определенное и предопределенное творческой мыслью. В том, что формирующий, творческий принцип подхватывает уже достигнутое, чтобы перейти к дальнейшим образованиям, можно усмотреть, по меньшей мере, подтверждение так называемого lex parsimoniae naturae [закона естественной экономии – wp], но никак не ограничение того принципа, который всегда проявляется как тот, что господствует над физическим процессом, независимо от того, отливает ли он какую-то форму жизни в новую форму или позволяет задуманной форме возникнуть из не менее данного материала неорганических элементов. Реалистическая концепция понятия вида никоим образом не изменяется [не подвергается влиянию – wp] такой концепцией происхождения: скорее, вид, даже если он возник в результате развития из другого, остается моделью, определяющим моментом [to on heureka], а не простым эффектом процесса развития, и стадия метаморфозы, которой он обязан своим происхождением, не может рассматриваться как эквивалент последующего состояния стабильности. Но поскольку доктрина происхождения гораздо лучше соответствует биологическим фактам, чем гипотеза прямого акта творения, и поскольку только она дает ключ к пониманию некоторых законов органической жизни, таких как параллелизм эмбриологического, палеонтологического и систематического рядов развития, Поэтому выдающиеся представители теистического мировоззрения вынуждены отдать предпочтение теории происхождения или трансмутации, которую они называют «теорией развития», чтобы выразить отличие своей концепции от механистической, перед более древним предположением о сотворении.
Согласно Иоганну Губеру, эта теория развития представляет собой
«не что иное, как учение о непосредственном творении, а именно о производстве новых и высших сущностей из более ранних и низших посредством силы творческого инстинкта, который активен с самого начала и стремится к все более богатому проявлению».
Но даже такие акты производства, как и непосредственные творения,
«необычны, так как они нарушают обычный ход естественной жизни и поэтому не могут быть наблюдаемы в ней».
Таким образом, эта теория развития прекрасно согласуется с постоянством вида. Ведь если развитие – это нечто тауманическое [магическое – wp], если для реализации какой-то новой идеи требуется особая соллицитация [развитие – wp] со стороны гиперфизического [сверхъестественного – wp] принципа, чтобы произошли изменения в органическом мире, Для того чтобы вид вышел за пределы самого себя, вид в своем нормальном поведении является фиксированным, неизменным типом, и правы те, кто отрицает любые изменения в живых существах, обусловленные естественными причинами, в той мере, в какой они выходят за пределы вида.
Из этой гармонии теории развития, основанной на реалистическом варианте концепции вида, со старой видовой догмой, прямо отмеченной Вейссе и другими, наиболее отчетливо вытекает и ее расхождение с концепцией современного естествознания. Ведь последнему свойственен не просто взгляд на развитие в целом, но, в частности, исключение всякого сверхъестественного момента из процесса трансмутации и развития, допущение возможности модификации, лежащей в самих организмах, что достаточно для объяснения всех различий, обнаруживающихся в органических царствах (или, по крайней мере, в ФИЛЕНе). Естествознание ни в коем случае не будет принципиально возражать против допущения внутреннего принципа развития, «внутренней [в себе – wp] тенденции организмов к вырождению из родительского типа», если такая тенденция принимается как следствие механико-материальных причин, но оно самым решительным образом отвергает любую телеологическую интерпретацию этого принципа, и именно такая интерпретация составляет суть рассматриваемого метафизического взгляда. То, что естествознание рассматривает как результат, следствие, то есть как последнее из своих начал, оно делает первым, принципом, причиной, и таким образом конечный продукт процесса преобразования живого мира предстает перед ним как цель, определяющая весь процесс во всех его моментах, которая, конечно, еще не может быть распознана в зачатках органического становления.
«Не человеческий род, – говорит Фроншаммер, – возник из животного мира, а наоборот, человеческая природа была изначальной первичной сущностью всего живого, пусть даже потенциально или идеально, и в неизмеримом природном процессе реализации, производства человеческой природы животный мир возник, так сказать, как вторичное приобретение и – если хотите – настоящая игра творческого мирового воображения или объективной формирующей силы».
В то время как естествознание – если снова воспользоваться словами Фроншаммера – рассматривает каждое образование как нечто, что «возникает из взаимодействия данных условий без типичного принципа, без синтетической силы», эта точка зрения полагает, что в качестве принципа в природе должна быть признана «идея или идеальная и телеологическая норма».
С трансцендентальным реализмом философов-теистов тесно связана позиция, которую занимает в этом вопросе философия бессознательного, «доктрина всеобщего инстинкта или абсолютного ясновидения», как метко назвал ее Фихте. Эта философия, которая за очень короткое время не только приобрела необычайную популярность, но и нашла если не одобрение, то, по крайней мере, внимание в профессиональных кругах, предлагает такое множество точек отсчета для самых разных новейших систем и философских направлений, что она проявила бы совершенно эклектический [идеи других принимаются и объединяются в систему – wp] характер, если бы сама концепция бессознательного не придавала ей характер оригинального и единого творения мысли. Отличие ее учения об идеях от только что рассмотренного взгляда также по существу основано на том, что то, что в ней есть сознательная мысль, в ней лишено сознания и стало «бессознательным воображением»; кстати, впрочем, и в монистической версии Абсолюта, который производит реальный мир не только из себя, но и в себе, через конфликт двух своих моментов: воли и воображения. В силу этого «единства» бессознательного, делающего невозможным всякое самостоятельное существование твари, отношение творческой мысли к тварному миру, идеи к ее реализации или физическому образу становится иным: идея, в том смысле, что воля схватывает ее как содержание, задается из себя, но не из абсолюта; ее реализация, ее переход в сферу материального бытия есть процесс внутри абсолютного духа, т.е. «бессознательного». Т.е. «бессознательного». Дуализм духа и природы, творца и твари, составляющий основную предпосылку собственно теизма, в философии бессознательного оказывается полностью упраздненным, поэтому последовательные теисты справедливо называют ее пантеистической [все есть Бог – wp] и, с одной стороны, отрицая божественное сознание, а с другой – уничтожая самостоятельность конечной индивидуальности и тем самым ее противопоставление абсолютному духу, выступают против нее. С другой стороны, «философия бессознательного» согласна с теизмом и составляет с ним общую оппозицию гегелевскому учению в том, что, во-первых, принимает в качестве полной реальности иное бытие, помимо понятийного мира, алогическое бытие, помимо логического, и, во-вторых, что логическое или идея не основывается на самой себе, а коренится в тождественной субстанции с нелогическим, которое она положительно определяет как волю. Различие между бессознательной идеей и понятием также прямо подчеркивается, поскольку понятия следует рассматривать только как «мосты дискурсивного мышления», «в то время как все бессознательное мышление движется в конкретных интуициях».
Поскольку фон Гартман полностью выступает против трансцендентального идеализма, само собой разумеется, что идеи бессознательного радикально отличаются от «Идей» Шопенгауэра, так же как и согласие с Шопенгауэром в целом, по крайней мере в теоретической или собственно метафизической части, распространяется лишь на очень поверхностные моменты. Тем более что principium individuationis в «Философии бессознательного» имеет совершенно иной смысл, чем в системе Шопенгауэра, где он основан на субъективной концепции рассудка и где индивидуация, происходящая вне сознания, оставалась для этого мыслителя столь же чуждой, как и понятие «объективной видимости». Бессознательную идею, которая реализуется в пространственных атомах посредством воли еще до того, как появляется субъект, способный на нее взглянуть, ни в коем случае нельзя путать с идеей, которую лишь обманчивое зеркало рассудка разбивает на множество природных индивидов.
Если идеи выражаются в природе, то они, очевидно, должны вести себя как цели, а материя, в которой они реализуются, – как средства, и, наоборот, природная цель, вероятно, не может мыслиться как существующая иначе, чем в форме идеи: отсюда связь между реализмом и телеологией, отсюда тот феномен, который можно наблюдать во все времена, что реализм чувствует себя как дома, предпочтительно в области биологических наук. В этом отношении «Философия бессознательного» особенно поучительна, поскольку в ней самым ясным образом раскрывается связь между реалистическим подходом и понятиями цели, которые до сих пор не были полностью устранены, то есть для всех, в сфере органического.
«Если Платон, – говорится в „Философии бессознательного“, – если Платон, действительно не имевший представления о законах природы, предполагал трансцендентные идеи всего, из которых он мог абстрагировать общие понятия, то это была детская точка зрения, которая, как сообщает Аристотель, впоследствии вызвала его собственные справедливые опасения. Теперь мы знаем, что вся неорганическая природа является следствием действия атомных сил по своим имманентным законам (которые являются частью их идеи) и что только с возникновением организмов появляются действительно новые идеи».
Но откуда «мы» знаем об этих «новых идеях», которые появляются только в организмах? Как иначе, чем из очевидной целесообразности органических образований и органических процессов? Ведь то, что жизненные явления не являются также «следствиями действующих атомных сил», что в них реализуются действительно новые идеи, которые еще не включены в идею неорганической природы, и приводят в действие новые силы, предполагается только потому, что морфологическая и физиологическая целенаправленность в органике, по-видимому, ускользает от объяснения из причинности сил, господствующих в безжизненном мире. Таким образом, идея и цель неразрывно связаны друг с другом. Согласно фон Гартману, цель должна быть «позитивной стороной логического» или, что то же самое, бессознательного воображения – в любом случае, она является основанием познания последнего, через концепцию которого «философия бессознательного» получает возможность проникнуть в царство идей.
Эта связь между учением об идеях и концепцией цели, как я уже говорил, вполне естественна, и ничто не принесло бы реалистическому взгляду более блестящей победы, чем если бы ему удалось доказать реальность объективных целей, которые не возникают в животном сознании; с другой стороны, однако, легко понять, что именно эта связь в основном виновата в том, что точные науки так мало смогли подружиться с «философией бессознательного», современным коньком писателей-эстетиков.
Ведь отвращение естественных наук к идеям цели любого рода настолько глубоко, что буквально поражает, когда выдающийся ученый сегодня берется за дубину в пользу целесообразности, «целеустремленности» и тому подобного; вот почему взгляд, основанный на телеологических предпосылках, с самого начала должен отказаться от признания со стороны позитивной науки. В «Философии бессознательного», однако, телеология предстает в более вопиющей форме, чем в любой из знаменитых философских систем века, на завершение и синтез которых она претендует. Поэтому утверждение ЛАНГЕ о том, что эта современная система находится в более резком контрасте с позитивными науками, чем любая из более ранних, и повторяет ошибки Шеллинга и Гегеля в гораздо более грубой и ощутимой форме, вряд ли может быть оспорено. Ведь если взгляды Гегеля оставляют столько возможностей для индивидуального толкования и изложения, что известный физиолог мог бы фактически приписать Гегелю устранение понятия цели из объяснения природы, то, с другой стороны, было бы совершенно невозможно не признать телеологическую основу «философии бессознательного» и не продемонстрировать ее согласие с механистическим образом мышления естественных наук. Поэтому ничто не может быть более губительным для «философии бессознательного», чем укрепление принципов Дарвина. Высказывание Гартмана показывает, что он не оставался в неведении относительно опасности, грозящей ему с этой стороны:
«Если бы с какой-либо стороны к философии бессознательного подступила необходимость существенной модификации, то это, скорее всего, произошло бы со стороны биологической теории происхождения».
Такая реорганизация философии бессознательного в том смысле, которого требует дарвиновская теория отбора, была фактически предпринята анонимным автором работы «Бессознательное с точки зрения физиологии и теории происхождения», который попытался объединить точки зрения Гартмана и Дарвина. Конечным результатом этой попытки, конечно, должен был стать полный отказ от метафизического принципа бессознательного; но эта работа представляет не меньший интерес, поскольку в ней совершенно четко прослеживается связь между учением об идеях и концепцией цели и, в частности, убедительно объясняется, как дарвинизм навсегда устранил почву для телеологических спекуляций.
Полное признание истинности учения о происхождении ведет, таким образом, не только к ограничению и модификации, но и к полному упразднению метафизического бессознательного и его формирующих идей. Если как возникновение, так и закрепление новых видов, новых типов вообще, является следствием естественных причин и сама природа обладает средствами для возникновения вариаций, а также средствами для создания нового типа среди измененных особей, будь то через миграцию [migration – wp] тех же самых, будь то через их выживание в борьбе за существование, амиксию [отсутствие спаривания – wp], тогда нет причин ссылаться на чудотворное бессознательное для объяснения процессов органической трансмутации, которая, по мнению фон Гартмана, играет прямую (т.е. изменяет законы природы) роль в дальнейшем развитии организации. (т.е. изменяя законы природы) в дальнейшем развитии организации,
«с одной стороны, для того, чтобы вызвать в новых зародышах отклонения, которые не возникают случайно и все же лежат в рамках ее плана, а с другой стороны, для того, чтобы защитить возникшие отклонения, которые принадлежат к ее плану, но не дают организмам никакой повышенной конкурентоспособности в борьбе за существование, от повторного уничтожения путем скрещивания».
Философ бессознательного недавно подверг дарвинизм тщательной критике и подчеркнул необходимость метафизического, т. е. Философ бессознательного подверг недавно дарвинизм основательной критике и попытался доказать необходимость метафизических, то есть гиперфизических, трансцендентальных принципов объяснения наряду с естественным отбором и вспомогательными, механическими принципами Дарвина; согласно этому, указанные Дарвином способы трансмутации являются лишь отдельными средствами для реализации идеального закона развития, наряду с которым гетерогенное размножение и производство систематических сходств и соответствий, не опосредованных происхождением, являются не менее существенными средствами для реализации «идей природы»; Но даже те формы процесса развития, которые дарвинизм утверждает в исключительном порядке, не являются результатом чисто механических причин, а представляют собой, по крайней мере отчасти, выражение «планового, внутреннего закона развития» и имеют телеологический смысл. Однако, рассматривая истинно механические процессы как лишь подчиненные средства реализации плана развития, фон Гартман тем не менее стремится к исчезновению существующей оппозиции между механической и телеологической концепциями природы и не стесняется утверждать, что механизм невозможен без телеологии.
«Если представить себе абсолютный механизм, то он реализует абсолютную телеологию eo ipso, если представить себе телеологию, реализованную абсолютно телеологическим образом, то она должна быть абсолютно механической!»
Критическая философия, однако, будет осторожна и не захочет доказывать обратное этим положениям, так как она с готовностью признает, что знает так же мало о намерениях любого целенаправленного мирового принципа, как и о возможных средствах их реализации, но она также не сможет скрыть тот факт, что было бы трудно найти в абсолютно механической системе доказательства реального существования такого мирового принципа, для которого этот механизм служит лишь средством реализации его целей. Телеология и связанная с ней доктрина идей, очевидно, заинтересованы в определении точек в природе, где они видят новые цели, новые реализованные идеи, в которых механическая причинность оказывается прорванной и приостановленной, и именно по этой причине финализм [все события определяются целями и протекают целенаправленно – wp] и концептуальный реализм всегда будут враждебны механическому взгляду на природу. Сама «философия бессознательного» являет собой яркий пример этой враждебности, основанной на самой сути дела.
Вряд ли можно сомневаться в том, что сегодня не только «философия бессознательного», но и весь реализм противоречит реальному прогрессу, достигнутому в познании природы. Реалистическая точка зрения могла опираться на биологию до тех пор, пока в догму о виде верило подавляющее большинство исследователей; вид, существующий сам по себе и не имеющий генеалогических связей, мог рассматриваться с тем большим основанием как воплощение идеи, что трудность возникновения органических форм автогонически [самозарождающихся – wp], через generatio aequivoca, из неорганической материи, была настолько значительной, что философы-натуралисты, такие как Кзольбе, прибегали к гипотезе вечного существования отдельных видов, которая противоречит всем фактам, чтобы избежать допущения идей или типов рода, которые, по мнению Кзольбе, только
«могли заставить бесформенные и незапланированные силы собрать основные материалы в формы организмов».
Эти трудности были полностью устранены теорией отбора. Будучи конечными продуктами ряда событий, длившихся миллионы лет, те формы, которые в противном случае пришлось бы рассматривать как гиперфизические образы неких идей, оказываются доступными механическому пониманию и объяснению, а осознание присущей организмам изменчивости, которая при определенных условиях позволяет одному виду превращаться в другой, делает идею потусторонних, формирующих идей совершенно устаревшей. Таким образом, понятие вида перестало быть метафизическим или, выражаясь языком Канта, конститутивным принципом объяснения природы; вместо идеального вида физический индивид признается реальной основой всех конструкций и преобразований в органике.
То, что дарвинизм в особенности должен сделать номиналистическую точку зрения победоносной, уже подчеркивал прекрасный ботаник Шлейден, известный также как сторонник философии Фриса, в лекции о «Происхождении видов», в которой он выразил надежду, что новейшие научные исследования освободят нас от последнего остатка реализма, то есть от теории видов, в которой, по его мнению, все еще находились Кант, Фрис и Апельт. Ведь и эти мыслители все еще придерживались предрассудка, что несубстанциальность понятия, которую они утверждали во всех областях (?), не имеет места в природе (?), что здесь скорее понятие вида имеет объективное, реальное значение; они попытались бы построить «полуметафизический закон природы» в законе спецификации, согласно которому понятиям вне «субъективного, изменчивого представления» соответствует нечто «фиксированное и реально существующее». В этом случае взгляды Фриса также противоречили бы номинализму, практикуемому в современной науке. Однако создается впечатление, что прекрасный автор «Новой критики разума» и «Математической философии природы», чей точный образ мышления посреди романтических спекуляций его эпохи заслуживает всяческих похвал, был жестоко оскорблен своим учеником. Можно пока не обсуждать, требует ли предположение о законе спецификации, выражающемся в природе, реалистической концепции и в какой степени; здесь можно высказать лишь мнение Фриса о значении самого этого закона и тем самым кратко охарактеризовать позицию мыслителя, который, вероятно, заслуживает не меньшего внимания, чем Шеллинг и Гегель, по вопросу о номинализме и реализме. То, что Фриз представляет спецификацию как объективный закон природы в смысле универсального определения индивида общими идеями или типами, решительно неверно; он не только прямо заявляет, что мы используем законы гомогенности, спецификации и непрерывности форм



