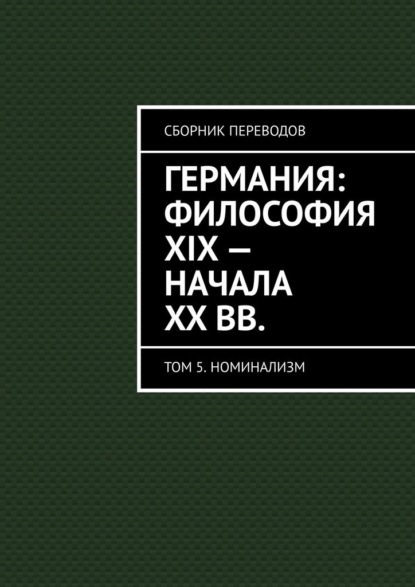
Полная версия:
Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 5. Номинализм
Ансельм и Гильдеберт стремились к философскому формированию теологии, причем Ансельм с большим диалектическим искусством. Он точно знал силлогистику и стремился к свободному рациональному познанию религиозных истин, но при условии, что разум может достичь своей цели только при условии церковной веры и строжайшей приверженности ей. Разум может служить для оспаривания неверия, но не для обеспечения веры. Он был особенно привязан к высказываниям Августина. Его главные философские труды – монолог и пролог. В первом он пытается научно и диалектически обосновать существование и атрибуты Бога, а в другом сближает те же мысли и представляет так называемое онтологическое доказательство существования Бога, получившее широкую известность. Его диалектика не лишена остроты, а попытка постичь через нее позитивные доктрины веры не лишена юмора.
Доктрина Скота поначалу вызвала в школах спор между материальным реализмом томистов и формализмом скотистов, причем доминиканцы следовали за Фомой, а францисканцы – за Скотом. Но выдающийся ученик Скота, францисканец Уильям Оккамский (деревня в графстве Сюррей в Англии), придал ситуации еще один новый поворот, вернув доктрину к номинализму. Оккам преподавал в Париже в начале XIV века и был смелым противником папского деспотизма. Иоанн XXII преследовал его запретом, но он нашел защиту у императора Людовика Баварского, к которому обратился со словами: tu me defendas gladio, ego te defendam calamo. [Если вы защищаете меня мечом, я буду защищать вас пером. – wp] Он умер в Мюнхене в 1347 году.
В своих диалектических доктринах Оккам продолжает тонкие учения своего учителя и таким образом возвращается к утверждению, что общие понятия имеют лишь субъективную реальность и значение в разуме. Но это отличие его доктрины от предыдущих было бы столь же мало прояснено, как и других, если бы он в конце концов не нашел правильное выражение для principium individuationis. Его рассуждения в конце концов приводят его к различию между деятельностью познания в восприятии (в actus apprehensivus) и в суждении (в actus iudicativus). Он противопоставляет непосредственное познание в восприятии постижению и постижение в суждении. Здесь он связывает различие между интуитивным и абстрактным познанием (notitia intuitiva и abstractiva). В одних суждениях констатируется только отношение субъекта и предиката, в других – бытие или небытие вещи.
Конечные случайные истины возможны только при предпосылках воззрений; существование или несуществование вещи никогда не может быть познано из необходимых истин. Таким образом, он допускает, что познание индивидов возникает только через notitia intuitiva, и весь опыт и наука берут свое начало в этом. Таким образом, он правильно объясняет, не ограничиваясь положениями Аристотеля, что определения относятся не к вещам, а только к понятиям, что род может быть предикатом вещей, различных по роду, а вид – только индивидов. Точно так же он выходит за рамки платоновской доктрины и показывает, что идеи представляют собой только индивидов, а не роды, виды или что-либо еще общее, потому что только индивидуальные вещи могут быть созданы. То, что идеи представляются как нечто общее, может происходить только субъективно в конечных воображаемых существах. Таким образом, он также точно распознает разницу между числовым и специфическим различием. Две вещи, которые отличаются друг от друга как индивиды, не обязательно должны отличаться по отличительным признакам, но они также могут быть двумя или более как таковыми. Хотя он развивает эти доктрины в тонкой и далеко идущей манере своего учителя, он, тем не менее, приходит к некоторым значимым для теории человеческого познания взглядам. К ним относятся, в частности, признание непосредственного зрительного познания между объектом и мыслящим умом и доказательство внутреннего восприятия наших идей. Видение камня, говорит он, видится через другое видение, но это не может продолжаться до бесконечности, а должно остановиться на одном видении как непосредственном первом.
Это дало бы очень хорошую основу для более свободного движения мысли и более ясной концепции человеческого познания, если бы Оккаму удалось провести свое исследование человеческой способности познания независимо от рациональной теологии. Однако, вместо этого, эти исследования полностью ограничиваются доктриной Бога; все это, несмотря на всю остроту концептуальных различий, остается лишь схоластикой, которая не может подняться до уровня науки. Доктрина все еще не знает, как использовать яркое знание, которое она сама признает в качестве основы для эмпирической науки, поскольку не знает, как отличить божественную истину от естественного закона. Именно начав признавать права человеческого эмпирического знания наряду с верой в авторитет, различие между объектами науки и веры упускается из виду, и наука по-прежнему мыслится как космология под идеей божественного действия.
Многие последовали за Оккамом, особенно францисканцы. Так возобновился спор о реализме и номинализме между свободомыслящими номиналистами и томистскими и скотистскими реалистами. Но он вышел из наших интересов и стал более политическим. В основном против номинализма выступали лишь страх перед нововведениями и старый предрассудок, что реализм является опорой для церковной доктрины. На протяжении XIV и XV веков номиналисты неоднократно подвергались противодействию со стороны папы и школы посредством запретов и запрещений. В Парижском университете такие запреты следовали один за другим в 1339, 1340, затем в 1409 и, наконец, в 1473 г. Однако школа уже не была так тесно связана с римскими интересами, ученые уже не были просто монахами, а монахи уже не были объединены папскими интересами. Таким образом, свободная мысль не могла быть подавлена. Номинализм находил постоянную защиту, особенно в немецких университетах. Но, с другой стороны, свободная мысль всегда сталкивалась с нелегкой борьбой. Философский дух действительно нашел средства приблизиться к великому решению, в котором знание и вера признаются имеющими свои взаимные права, но при использовании этих средств его свободное движение долгое время оставалось заторможенным. Старая ревность и подозрительность духовных властей продолжала препятствовать многим свободным стремлениям; там, где это не совсем мешало, отвратительность школьных диспутов снова портила здоровое чувство и дух исследования, и повсюду ужасы инквизиции грозили еретикам и объявленным ведьмами кольями; наконец, даже без этих угроз внешнего насилия их собственный суеверный страх препятствовал им во многих отношениях. Вот почему так много благородных начинаний постоянно обманываются в своем счастливом успехе или, по крайней мере, затухают. В последние времена коалиция физического суеверия в колдовстве и чародействе с церковным суеверием стала самой опасной тормозящей силой, сдерживающей и подавляющей свободное развитие духа. Однако всегда находились смелые духи, которые бросали вызов этим опасностям и продолжали свободное формирование философского разума.
Первое достижение этого времени заключалось в том, что запросы тех, кто мыслил самостоятельно, были освобождены или отвернуты от положительных аспектов церковной доктрины. Это сделало возможным более разнообразный акцент на новых оригинальных опытах, благодаря чему на место спора о номинализме и реализме перед философским разумом встали две другие задачи: философское развитие эмпирических наук и дальнейшее развитие науки о человеческом разуме, особенно в теории способностей познания. Но здесь дальнейшее развитие философской науки долгое время играло весьма подчиненную роль по отношению к дальнейшему развитию духа в жизни народов.
До времен Оккама диалектическое образование проходило в монастырских школах. Но период после Оккама, когда в школах возродился номинализм, привел к значительным переменам в образовании людей. Основание университетов стимулировало и двигало научный дух; теперь высшее образование освободило науку от уз монашеской жизни и охватило всю жизнь народа. Предприимчивый дух германских племен, вместе с более спокойным порядком торговли, постепенно приобрел тот республиканский порядок гражданской жизни, который образовал третье сословие и душой которого является художественное трудолюбие, то изобретательное художественное трудолюбие, для которого естественные науки становятся важнейшей задачей. Таким образом, гражданская жизнь требовала дальнейшего развития естественных наук, которые в конце концов вывели современную эпоху за пределы греческой и дали оружие против священнического принуждения и всех суеверий. Наконец, история человечества в XV и начале XVI веков принесла еще несколько решающе важных событий в результате развития духа, которому благоприятствовали вышеупомянутые моменты. К ним относится новое эстетическое формирование ума в Италии под руководством поэтов Данте (умер в 1321 году), Петрарки (умер в 1374 году) и Боккаччо (умер в 175 году), которое постепенно пробудило вкус европейских народов. Этому в немалой степени способствовало появление в Италии греков (Георгий Генаст Плето и Бессорион приехали во Флоренцию в 1438 году) и пробуждение у них любви к классической литературе древних. Кроме того, было изобретено искусство книгопечатания и получило большое развитие искусство мореплавания, которое в итоге привело человека к научным и политическим поискам по всему миру. Наконец, все это сопровождалось Реформацией церкви.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Вильгельм Виндельбанд, Geschichte der alten Philosophie, 1888, стр. 73
2
Paul Deussen, System der Vedantalehre, page 501
3
Ср. Christian August Brandis, Geschichte der Entwicklungen der griechischen Philosophie I, Berlin 1862, стр. 235.
4
Рудольф Эйкен, Geschichte der philosophischen Terminologie, pp. 75 и 77.
5
Три небольших трактата более позднего времени, написанные в русле этой работы, рассматривают старый и более поздний номинализм. Carl Grube «Über den Nominalismus in der neueren und französischen Philosophie» (Inauguraldissertation, Halle 1889), очень читаемый, основательный небольшой труд, в котором подробно прослеживаются последствия и развитие номинализма в учениях ряда более поздних философов (Гоббс, Беркли, Юме, Кондильяк, Тайн, Шюте). – Затем – инаугурационная диссертация Ричарда Гетшенбергера «Grundzüge einer Psychologie des Zeichens», опубликованная в 1901 году, в которой этот важнейший компонент терминологической философии рассматривается в проницательной и весьма скептической манере. Взяв пример Секста Эмпирика о том, что дым – это знак огня, Гетшенбергер встает на позицию наивного реалиста, который прозревает в своей наивности. Наше научное доказательство и познание имеет своим объектом только знаки. «Результаты настоящей работы основаны на знаках, которые являются для меня определенными в моем настоящем опыте и в моем настоящем состоянии сознания», – не утверждается. Не утверждается и более высокая степень достоверности этих результатов, чем утверждение обывателя о существовании чего-то воспринимаемого, и не утверждается более высокая доказательная сила их доказательств, чем доказательств этого обывателя.» (стр. 132) «Для научного утверждения также не существует более точного доказательства реального существования моего карандаша, чем то, которое я предоставляю, схватив карандаш. Обыватель доказывает существование чего-то, воспринимаемого как тело, самим фактом, что он получил подтверждение от другого чувства или от того же чувства с другой точки зрения». «Доказательства, которые столь же ясны, как это доказательство непрофессионала… являются самыми надежными доказательствами, которые мы можем дать». (стр. 131). – Гуго Шпитцер, «Номинализм и реализм в новейшей немецкой философии» (Лейпциг, 1876), в очень общих замечаниях, однако, стремится установить на примере Фихте, Шеллинга, Гегеля, Гербарта, Бенеке, Дюринга, «что история новейшей немецкой философии представляет убедительное доказательство того, какую важную роль играют реализм и номинализм, как глубоко они вмешиваются в формирование философских систем, даже если они… даже если они не фигурируют под своими реальными именами и стоят, так сказать, за кулисами». (стр. 8)
6
«Наши представления о вещах могут быть не чем иным, как символами, естественно данными знаками для вещей». («Факты в восприятии», 1878, стр. 12)
7
Ср. Überweg, Grundriß der Geschichte der Philosophie, 9th ed. vol. II, p. 513
8
Отрывки из De interpret. и De categ. у Аристотеля, перепечатанные в Prantl, op. cit. I, стр. 145, прим. 197 и I, стр. 218, прим. 387.
9
Stockl, op. cit. Том II, стр. 462
10
Prantl, op. cit. Том III, стр. 293, прим. 559
11
Прантль, указ. соч. Том III, стр. 323, примечание 711
12
Windelband, Geschichte der Philosophie, стр. 270
13
Quinque voces, которые в зародыше встречаются уже у Аристотеля, имеют интересную предысторию, которую Прантль более подробно прослеживает у Теофраста, у римских риторов, у Галена, Апулея, Порфирия, Марциана Капеллы (vol. I, pp. 342, 395, 518, 565, 584, 627, 674).
14
Prantl, vol. I, page 685, note 86.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



