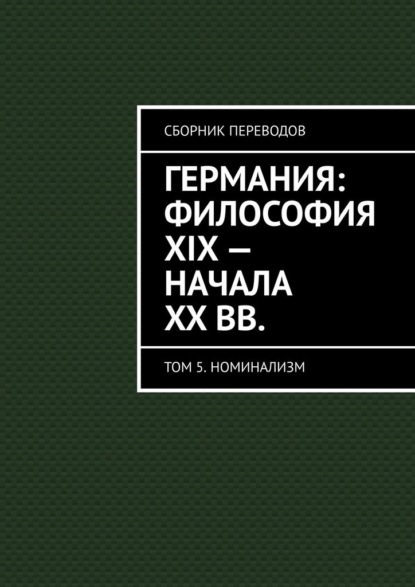
Полная версия:
Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 5. Номинализм

Германия: философия XIX – начала XX вв.
Сборник переводов. Том 5. Номинализм
Валерий Алексеевич Антонов Переводчик
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-7816-9 (т. 5)
ISBN 978-5-0064-7775-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Отто Вильманн (1839—1920)
Номинализм софистов
1. Беспокойное обучение, недостаточно регулируемое хромым мышлением и еще менее связанное моральными целями, то есть антитеза мудрости и философии, достойной своего имени, характеризует не только Демокрита, но еще более софистов, фактических выразителей духа морального и интеллектуального безделья, сопровождавшего рост материального благосостояния в греческих городах после Персидских войн. Их уместно называть мыслителями Просвещения Древней Греции и сравнивать с французскими энциклопедистами. Просвещение, как название господствующей в прошлом веке школы мысли, – это прояснение того, что лежит сверху, ценой затемнения того, что скрыто под поверхностью, поощрение неглубокого рассуждения, с помощью которого автономный субъект может со всем смириться, и развенчание основ, которые интеллектуальная работа имеет в традиции, религии, авторитете и моральном законе.
Чтобы освободить место для своего произвола, софисты-просветители подорвали все основы древнегреческого этоса, из которого нация черпала силы для великих свершений в Персидских войнах; в первую очередь религию и правовую теологию. «В софистической литературе мы встречаем все оттенки религиозного свободомыслия: от осторожного скептицизма Протагора, который утверждал, что ничего не знает о богах, до антропологических и натуралистических объяснений веры в богов у Крития и Продика и, наконец, до откровенного атеизма Диагора из Мелоса». Протагор начал свою работу по религиозному просвещению со слов: «О богах я не в состоянии знать, есть ли они или нет, ибо многое мешает нам это узнать: неясность предмета и краткость человеческой жизни». Афинские власти, однако, заняли позицию Залеукоса по отношению к этой новой мудрости, изгнали сильного духом человека, велели глашатаям собрать все проданные экземпляры книги и сожгли их на рынке. Разнообразие религий дало софистам прекрасную возможность представить их как вытекающие из местных законов. «Боги», – учили они, – «были продуктами искусства (techne), а не природы (physei), но были введены законами (nomois), одни здесь, другие в другом месте, в зависимости от того, о чем договорились законодатели». 1
Физики уже утратили понимание законной теологии, но все еще сохраняли связь с мистико-физическим учением о Боге, поскольку их arche [первопринцип – wp] все еще несет в себе черты внутримирного божества; их основная идея о том, что единое существует во множестве, вечное в изменении, по своей сути является религиозной; софисты также разрывают эту связь. С учением Горгия о том, что ничего не существует вообще, устраняется и последний остаток идеи изначального бытия. Точно так же покончено и с мистическим учением о бессмертии; Протагор отрицает субстанциональность души, которая есть ничто «помимо своих ощущений», то есть просто «пучок идей», как выразился один из современных современников софиста.
Для софистов священные дисциплины могли рассматриваться только как поле для полимафии, как пища для их занятых интересов. Математика была для них слишком сложной; удобнее, чем ее изучение, было утверждать, что ее теоремы стоят меньше, чем правила для плотников и сапожников, потому что она не дает указаний, как правильно поступать. Они также оставляли в стороне более серьезное изучение природы, а Горгий и вовсе отрицал его ценность. С другой стороны, они приветствовали естественную историю и исторические вопросы как материал для популярных ораторских выступлений. Гиппиас позволил себе читать лекции по математическим дисциплинам, истории героев и основания городов, а также по археологии, одновременно давая инструкции по изготовлению обуви и одежды.
То, что софисты лишены всякого исторического чувства, кроется в природе их школы мысли; Просвещение всегда неисторично, потому что видит в каждой традиции препятствие для самоопределения личности. Но оно не гнушается интерпретировать или фальсифицировать историю в своем собственном смысле. Именно так софисты поступили с доисторией, чья изменчивая традиция все равно давала простор для фантазии. Критий особенно выделяется своим описанием первобытного человека, который жил на манер животных, пока умные люди не придумали законы, а еще более умные люди не изобрели веру в богов в дополнение к законам – излюбленная тема философов Просвещения прошлого века, так же как тенденция видеть в человеке возвышенное животное всегда возникает там, где затушевывается идея человеческого достоинства и его основания в Боге.
2. Не софисты должны были превозносить такое знание как мудрость, поскольку их имя само по себе перекликается с именем мудреца и раньше использовалось как синоним слова sophos. Их истинное отношение к мудрости было раскрыто Платоном во многих отрывках его диалогов, а Аристотель смог дать поразительное определение: «Софистика – это иллюзорная мудрость, которая на самом деле не является мудростью, а софист – это человек, который ведет дела с этой иллюзорной мудростью, которая не является мудростью». Их учение о мудрости также является притворством; они восхваляли добродетель в напыщенных речах, даже провозглашая себя учителями добродетели, не без использования двойного значения слов arete, которое означает и добродетель, и мастерство, и deinos, которое означает и мастерство, и внушительность. Ориентиром для мудрости и добродетели служили выгода, власть и удовольствие.
Как и в случае с религией, так и в случае с моралью, они сделали объектом своих нападок правовой элемент, причем на тех же основаниях. Законы различны в разных местах и в разное время, поэтому являются лишь продуктом законодателей (nomoi), но не physei, по природе, то есть основаны на природе человека и обстоятельствах. Согласно Гиппиасу, божественный или естественный закон должен быть неизменным и самодостаточным; однако такого нигде не найти, и, следовательно, это просто воображение. То, что называется законом, учил Фрасимах, было придумано правителями, а его неизменность лишь притворялась перед подданными, чтобы держать их в узде.
Софисты также использовали контраст между nomoi и physei для отрицания достоверности знания, подобно тому как Демокрит учил, что восприятия – это nomoi. Протагор воспринял гераклитовское учение о потоке вещей и впечатлений и пришел к известному предложению, которым он открыл одно из своих сочинений: «Мера всех вещей – человек, тем, что есть, он измеряет бытие, тем, что не есть, он измеряет небытие». Он также учил, что все истинно, и в этом смысле Эвтидем говорил, что истина принадлежит относительному, что все принадлежит всему; нельзя ошибаться, ибо даже то, что мыслится неверно, истинно и тогда, когда мыслится действительно.
Устранив содержание знания, софистика сохранила пустое слово вместо имен вещей. Элеаты уже учили, что конечные вещи – это просто имена: «Только во мнении было, есть и будет в будущем то, чему люди дали имена», как и ведантисты, для которых превращение Всеединого в отдельные вещи «основано только на словах, на простом имени». Для софистов Всеединое также было уничтожено, и осталось только имя. Их споры велись только о словах; и если в серьезном споре мысль – мера слов, то для них слово, имя, было мерой мысли, необходимым следствием доктрины о том, что человек – мера вещей. Множественность языков легко могла служить аргументом в их пользу, что язык – это не physei, как учили Гераклит и Пифагор, а nomoi, вопрос позиционирования, произвольная форма для произвольного содержания. 2
Можно с полным основанием назвать софистов первыми представителями номинализма из-за их отрицания психического содержания, объективно лежащего в основе слов и имен. К ним обычно относят и стоиков, которые объявляли общие понятия лишь именами, которым ничего не соответствует во внешнем мире. Суть номинализма, однако, заключается не в отрицании объективной действительности общих понятий, а в отрицании объективного коррелята мысли вообще, в ограничении мысли умственной деятельностью, которая оставляет на ней свой след в имени.
Номинализм в этом смысле, однако, является выражением, наиболее характеризующим школу мысли софистов. Они превращают все в простой продукт умственной деятельности, в состояния сознания: содержание веры, закона, нравственности, мудрости, истины, и в этом они составляют полную противоположность идеализму, который не только для вышеупомянутых, но и для всех психических содержаний выдвигает объективный психический коррелят психического акта и видит в нем меру этого акта.
О том, что современники, смотревшие глубже, видели в этом номинализме действительный нерв софистики, свидетельствует тот факт, что Сократ направлял свои атаки именно против него, поскольку в своих диалогических расследованиях он всегда стремился установить, что именно мыслится в данном вопросе, и таким образом стал основателем дефиниции и логического реализма. Это, так сказать, ответ идеалистической установки на попытки софистики испарить реальность мысли.
3. Древние физики, как и школа Гераклита и элеатов, были чужды отрицающей тенденции софистики, но их мистицизм, переходящий в субъективизм, привел к тому, что они стали ее жертвой. Последовательное осознание материального принципа, учение о вечном потоке и взгляд на правильность мира чувств должны были привести к субъективизму, который софисты сделали своей жизненной стихией. Только пифагоризм предлагал твердую позицию вне водоворота понятий, в который попала греческая мысль. Но он не был склонен выходить из своего достойного уединения, чтобы вступить в борьбу с эристическими [сомнительными – wp] грубиянами. Тот, кто хотел противостоять им, должен был говорить на их языке, искать их на их собственной почве, ловить их на их собственных заблуждениях. Именно эту задачу взял на себя Сократ, с которого началась запланированная реакция против софистики, восстановление греческого этоса и связанной с ним философии.
Однако не стоит забывать о подготовительной работе к этому восстановлению, которая принадлежит людям, не принадлежащим к кругу философов, но чья интеллектуальная деятельность дает более здравомыслящим людям поддержку против модного безрассудства. В более широком смысле сюда относятся великие поэты греческого золотого века. Из всех видов поэзии хоровая поэзия и трагедия в особенности давали возможность выразить древнюю веру и мудрость прошлого; но высокоумные поэты также могли поставить комедию на службу благому делу. Аристофан, например, боролся с софистами, представляя их противника Сократа в качестве их представителя, хотя и несправедливо. Безымянный поэт говорил о тявкающих собаках, пустой болтовне глупцов, о стае умников, которые хотели одержать верх над Зевсом. Эпихарм, сиракузский комический поэт, современник Гелона и Гиерона, уже придал диалогу вес философских идей. Он представляет спор элеатов и гераклитов и, как кажется, решает обсуждаемый вопрос в пифагорейских терминах; по крайней мере, он ссылается на отношения между числами и измерениями. В другом фрагменте он говорит о софоне, в котором участвует не только человек, но и животные в силу своего инстинкта, в то время как природа одна знает, как она устроена.
Однако наиболее значимым является небольшой диалог, дошедший до нас, в котором духовные блага описываются как неотъемлемая ментальная сущность, в выражениях, которые, кажется, предвосхищают платоновские выражения, но источником которых, несомненно, является пифагорейская доктрина. Там говорится следующее:
«Игра на флейте – это что-то?» – «Конечно». – «Значит, игра на флейте – это личность?» – «Не то.» – «Дайте мне посмотреть! Что представляет собой флейтист? Кем он вам кажется? Человеком, не так ли?» – «Конечно». – «Не думаешь ли ты, что так же обстоит дело со всяким благом, что оно есть нечто само по себе и что тот, кто учится и понимает его, становится благом (искусным, мастером)? Если флейтист научится играть на флейте, танцор – танцевать, ткач – ткать или какому-либо другому искусству, он будет не искусством, а художником».
Здесь духовное содержание характеризуется как нечто само по себе существующее, в котором человек получает долю, что полностью противоположно последующему растворению духовного содержания в простых состояниях сознания софистами. Эпихарм здесь выступает на стороне логического реализма, то есть идеализма, и, как надо полагать, против номиналистических взглядов, которые высказывались до начала фрагмента диалога.
У старших пифагорейцев мы не находим прямого выражения идеи о том, что ментальные детерминации приобретаются через участие в объективно воспринимаемых ментальных благах, но в основном она включена в учение о том, что все реальное основано на подражании, мимесисе, ментальным моделям, поскольку в подражании есть участие в модели, как бы она ни была задумана.
Подобные высказывания Эпихарма – пример популяризации пифагорейской мысли, брожения идеалистического мировоззрения в массах. Но до планомерного воплощения идеальных благ еще далеко, в чем и состоит заслуга Сократа.
То, что он первый боролся с софистами их оружием на их земле, составляет его славу; но нельзя отрицать, что он только открыл борьбу и восстановление и что ни его оружие, ни эта земля не годились для окончательного завершения того и другого. Сократ борется с Просвещением посредством лучшего просвещения, но он не преодолевает полностью момент субъективизма, присущий Просвещению.
4. Для Сократа характерна тесная связь между интеллектуальным и этическим аспектами, что позволяет ему быть поборником идеализма. «Он рассматривал, – говорит Аристотель, – мораль с устранением общей природы; он искал в ней общее и обращал свое размышление к установлению определений». «Исследуя добродетели и подыскивая для них общие понятия, он пришел к вопросу о сущности. Он хотел сформулировать выводы; но основанием для вывода является определение сущности… Сократу по праву можно приписать две вещи: индуктивные исследования и общие определения, которые относятся к основам науки».
Аристотель также признает, что пифагорейцы первыми сформулировали определения сущности, только они слишком упростили себе задачу, связав понятие с числом и объявив его сущностью вещи. Их определения опрометчиво связывали понятие с умопостигаемой сетью пропорций, в которой они находили идеальную связь вещей, и поэтому не исследовали ее специфику.
От космических связей, которых добивались пифагорейцы, Сократ теперь полностью отвлекся и перенес точку зрения наблюдения в сферу повседневной жизни, причем в своих беседах он исходил из круга зрения собеседников, сравнивал самые разные случаи искомых отношений, убеждался в наиболее уступчивых, а затем набрасывал на контур полученного таким образом объекта, который все еще принадлежит доксе [мнению – wp], твердые линии определения, которое содержит только знание. В этой процедуре ему пришлось столкнуться с двумя аналитическими формами исследования: индукцией и определением, тогда как пифагорейцы применяли еще не регламентированную синтетическую процедуру, отталкиваясь от своих пропорций в дедукции и определении.
Выраженное различие между мнением и знанием можно найти только у платоновского Сократа, но его можно отнести и к историческому Сократу, поскольку мы встречаем его во всей сократической школе. Она была установлена еще элеатами и применялась самым строгим образом. Но то, как Сократ проводит различие между мыслью и знанием, существенно отличается от противопоставления, введенного элеатами. Для них чувственный мир – продукт мнения, абсолютное, простое бытие – объект знания, то есть интуиции, и эти два понятия прямо противоположны друг другу. Для Сократа в каждом мнении есть ядро, которое может составить предмет знания и которое нужно только выработать; это сущность вещи, которую нужно постичь в форме определения, реальное понятие, конкретный софон ее. Таким образом, содержание знания здесь имманентно, а не трансцендентно, как у элеатов. Такая концепция, естественно, приводит в движение мысль, исследование и обсуждение совершенно иначе, чем другие, и она была необходима для того, чтобы придать мышлению гибкость и многогранность, создать условия для искусства мышления – диалектики и теории мышления – логики. 3
В этом отношении Сократ является основателем обеих философских дисциплин, и все же в его концепции и процедурах есть что-то неудовлетворительное, потому что неудовлетворительное. Для него содержание знания еще не отделено от направленной на него работы, и поэтому достигнутое не проявляется окончательно. Он заявляет, что не хочет ничему учить, а только передавать знания; его диалектика – это искусство духовного акушерства. Он знает только совместный поиск и обсуждение, постоянно новое развитие знаний, никакого накопления и тем более систематизации. Когда к нему обращаются за инструкцией, он заявляет, что ничего не знает, и в определенном смысле прав, поскольку его спорадическая познавательная деятельность не ищет своего конечного объекта в науке. Таким образом, его определения или дефиниции сущности также остаются несвязанными, как бы атомами содержания знания. Мысль о том, что приобретение знания требует также передачи окончательно приобретенного знания, то есть фактического преподавания и обучения, далека от него; он не знает ни о сокровищнице знаний, над которой работают поколения, ни даже о наследственной мудрости, и в этом неисторическом взгляде на человеческую познавательную деятельность кроется его родство с софистами и Просвещением. Последние заявляют, что передаваемое из поколения в поколение ничего не стоит и подлежит уничтожению; он избегает признания этого, притворяясь невежественным; обоим не хватает понимания ценности традиции.
5. Сократовское учение о мудрости и этике имеет аналогичные светлые и теневые стороны. Сократ возрождает идею мудрости, утраченную физиками и софистами. Он придает всему знанию нравственную точку отсчета; поэтому он оставляет в стороне физику, так как не видит, как ее учение должно вести людей к самопознанию и делать их лучше. История мифов от Ан. Платон говорит ему, конечно, в смысле исторического Сократа: «У меня нет времени на мифологемы; но причина в следующем: Я еще не готов исполнить дельфийское предписание о познании самого себя, и поэтому мне кажется нелепым, пока я в неведении, исследовать странные вещи; поэтому я оставляю такие вещи на произвол судьбы и присоединяюсь к общепринятым мнениям о них; Я исследую не вещи, а самого себя, будь я чудовищем, еще более многообразным и дымным, чем Тифон [великан со 100 змеиными головами – wp], или более укрощенным и невинным существом, разделяющим божественное и светлое бытие.» Это хорошо выражает его вечно бодрствующее, как бы вездесущее моральное сознание, но нельзя отрицать, что в этом исключительном стремлении к самопознанию и самосовершенствованию основа морали сужается вопреки ее природе. В частности, на примере Тифона можно показать, что мифы способны дать мудрецу, посвятившему себя исследованию и стремлению к добру, множество указателей. Тифон – это злой принцип, противостоящий Осирису, наследнику Агатодамона; он стал злом в результате обольщения, то есть падшим демоном, вкусившим плод преходящего, и он снова обольщает демонов, чтобы они боролись против светлого мира благословения, который представляют Осирис и Исис. В этом кроется целый ряд нравственных отношений, которые мудрец имеет все основания продумать; не следует, конечно, упускать и окончательное применение мифа к собственному внутреннему «я», но древние мудрецы, создавшие миф, знали и это. Отказ сократовской мудрости от богословия часто критиковался в античности, например, в рассказе Аристоксена о том, что в Афины приехал индиец, встретил Сократа и спросил, о чем он философствует; когда тот ответил, что исследует человеческую жизнь, индиец рассмеялся и сказал, что никто не может знать человеческих вещей, если он ничего не знает о божественных вещах.
Столь же необоснованным, как и отказ от физической теологии, является отказ от физики. Многочисленные аналитические попытки Сократа определить сущность вещей нашли бы точку опоры и сплочения в синтетических ориентирах однородного, то есть идеалистического объяснения природы и, переплетая естественный и нравственный мир, добавили бы к рассмотрению жизни со стороны природы. Сократ, по его признанию, говорил, что деревья ему менее дороги, чем люди, потому что он мог разговаривать только с ними; ему также не хватало чувства природы и склонности к уединенным размышлениям, которые привлекали мудрецов в леса в других местах.
Его натура, философская, несомненно, была не лишена интуитивных и даже мистических черт, но даже они вели его только во внутренний мир. Его демониум, внутренний голос, время от времени подсказывал ему, что он должен и чего не должен делать. Мистическое богословие греков и даже их народные верования вовсе не незнакомы с идеей такого духа-хранителя, поскольку она получила богатейшее развитие у персов в учении Феруэра. Если последователи Сократа все же сделали его веру в демониум главным пунктом обвинения, потому что он таким образом ввел новые божества, неизвестные политической теологии, то отсюда ясно, что Сократ должен был придать вере в духа-хранителя странный поворот, который мог быть только индивидуалистическим, что он приписывал себе общение с божеством, предназначенным для него. Более того, мистиков должно было оскорбить то, что Сократ присвоил их учение о духе-хранителе, не будучи посвященным в мистерии и не приняв других их учений, в которых они могли видеть лишь произвольную подмену священных традиций, что было не совсем необоснованно. Теологическая неправильность Сократа, несомненно, должна была стать весомым аргументом в его осуждении, поскольку даже приговор дельфийского Аполлона, объявившего его мудрейшим греком, который утверждали его защитники, не мог послужить достаточным противовесом. Или же имя софос, как и имя софист, уже утратило свое полное звучание и больше не включало в себя эвзебию (страх Божий)? В борьбе с софистикой Сократу также пришлось занять позицию по вопросам происхождения права и природы справедливости. В соответствии с основной идеей правового богословия он приводит доводы в пользу божественного происхождения права, которое он прослеживает до неписаных законов, исходящих от богов и повелевающих одинаково во всех странах. На них основывается авторитет государственных законов: законное есть справедливое, так что справедливое не просто дается как physei, но признается производным от thesmoi [установленного закона – wp], в смысле пифагорейцев. В «Крито» Платона Сократ вводит законы в речь и заставляет их думать о благах, которые они постоянно даруют жизни человека. Таким образом, их этос предстает как почти личная сила благословения над индивидом.
Таким образом, правовой элемент в сократовском учении о мудрости кажется достаточно весомым, чтобы дополнить тенденцию к индивидуальному совершенствованию. Но это не так. Мы не узнаем, как неписаные и писаные законы задают ориентиры для внутренней жизни и дают однозначную цель для стремления к самоисследованию и самосовершенствованию. Субъективная мораль недостаточно усваивает объективную мораль; мудрец правильно соблюдает законы, но не усваивает их; внутри него первым голосом обладает то «я», над которым он работает в исследовании и совершенствовании.
6 Интеллектуализм сократовской этики связан с этой экстернализацией законоподобного элемента морали. Внутреннее соответствие закону, которое образует добродетель справедливости, не занимает особого места во всей добродетели, но оно ищется в мудрости, более того, в знании, в познании. Аристотель мог бы сказать: «Сократ рассматривал добродетели как науки», так что для него знание справедливости было равнозначно тому, чтобы быть справедливым. Он считал знание силой, способной преодолеть желание; всякая добродетель – это наука, потому что без знания нет действия; мужественный и справедливый поступок не имеет ценности, если он не вытекает из самоопределения разума. Совершать зло осознанно лучше, чем неосознанно, потому что в этом есть приближение к знанию, а полное знание исключает совершение зла. При полном знании, однако, никто не совершает зла; люди поневоле злы. Так, Сократ дает гетере Феодотее объяснения по поводу ее ремесла, чтобы отучить ее от него посредством более совершенного познания.
Как и теоретические, этические вопросы Сократа также лишены синтетической структуры; вопрос о том, что такое благо, не выходит за рамки формы того, чем оно является в конкретном отношении, для того или иного человека, и поэтому благо не возвышается над присвоенным, полезным. Знание добродетели приравнивается к эвдемонии, у Ксенофонта – в утилитарном смысле, у Платона – в искусном переплетении полезного с прекрасным и благом.



