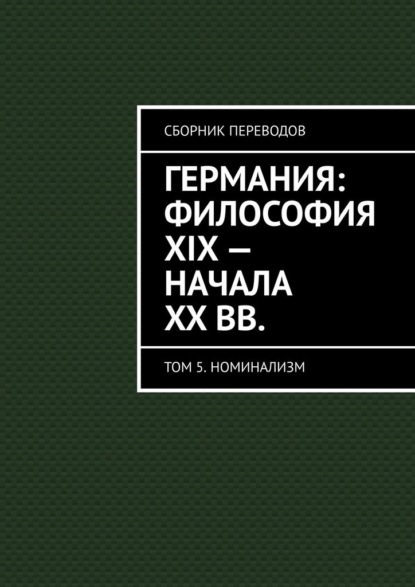
Полная версия:
Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 5. Номинализм
Таким образом, размышления Сократа о морали даже отдаленно не стоят в одном ряду с размышлениями семи мудрецов и Пифагора, а между тем последний считается фактическим основателем этики. На самом деле он лишь более разносторонне, чем древние мудрецы, проанализировал субъективную сторону морали, ее корни в сознании и индивидуальные установки. Он научил этику языку, на котором она не говорила до него, дал ей глаз на мелкое, кажущееся незначительным, гибкость наблюдения, преданность индивидуальному добру и злу, чего не делал никто до него.
Здесь все так же, как и в теоретической области. Этика и диалектика Сократа значительно уступают пифагорейской мысли по широте взгляда и грандиозности замысла и изначально означают обеднение понимания идеального в природе и жизни, то есть регресс идеализма. Но Сократ сумел извлечь из ограниченного материала новые идеи и способы познания, что пошло на пользу его преемникам, перед которыми теперь стояла задача разрушить чрезмерно узкие барьеры и раскрыть все содержание старой мудрости, применив новые точки зрения. Но диалектика Сократа, и в особенности ее центральная идея: искать сущность вещей как нечто одновременно интеллектуальное и реальное, стоит выше его этики и могла бы послужить ее корректором. Это был отход от его логического реализма, когда он приравнивал осуществление справедливости к самой справедливости и вообще ослаблял моральные детерминации до интеллектуальных. Следовательно, он должен был допустить, чтобы справедливое, прекрасное и доброе рассматривались как особые ментальные объекты, которые мышление должно выработать из оболочки мнений и представить как объекты знания, но которые, таким образом, сами по себе ни в коем случае не являются простым знанием. Таким образом, в этике основополагающая идея логического реализма представляется ему ослабленной и сохраняется лишь в признании объективности законов, что, однако, не оказывает определяющего влияния на индивидуальную этику.
7. Сила сократовского философствования – в его логическом реализме, и поэтому о ценности достижений его учеников следует судить по тому, усвоили ли они и развили его или отпали от него, что, конечно, в основном и было началом мастера. Аристотель и киренаики демонстрируют нам полный отход от основной сократовской идеи. Аристотель справедливо причисляет Аристиппа к софистам. Он обновляет эпистемологию Протагора: нам даны только чувственные привязанности, поэтому мы знаем только свои состояния, ничего о вещах, а они всегда истинны, но индивидуально различны, так что общее именование их никак не гарантирует их согласия, а сами имена в принципе ничего не стоят. Справедливое, прекрасное и злое – это, конечно, не physei, а nomo kai ethei [закон и мораль – wp]. Чувство удовольствия – единственный оправданный мотив для действий. Вполне логично, что киренаик Феодор учил, что нет ничего, что не было бы разрешено при определенных обстоятельствах, и что вся ценность действий определяется их последствиями, и что он безоговорочно отрицал богов и божество.
От Антисфена, основателя кинической школы, мы слышим, что он, как и Сократ, ценил определение; он давал следующее объяснение: logos estin ho to ti en e esti delon [определение есть определение сущности – wp]; если это утверждение точно, то он использовал термин, который позже стал общепринятым у Аристотеля. Когда он формулирует ведущий вопрос определения как ti en;, это идеалистическая концепция, в которой понятие, подлежащее определению, мыслится как предшествующее вещи; вопрос заключается в том, как вещь была предназначена, предопределена в мысли, еще до того, как она стала этой вещью, – концепция, которая, конечно, не согласуется с другим образом мышления киника. Когда он говорит, что определение можно дать только составной вещи, поскольку простые вещи имеют только имя, но не логос, он еще не отходит от Сократа, но отходит, когда называет определение словоблудием, поскольку оно может только указать, как устроена вещь, но не что она собой представляет. Таким образом, он сводит определение к описанию, поэтому его высказывание: «Начало образования – это созерцание имен» следует понимать в номиналистическом смысле. Его любовь к игре слов также может свидетельствовать о том, что он оставался под чарами слова. Он прибегает к софистике, когда утверждает, что о каждой вещи можно сказать только особое понятие, так что возможны только тождественные суждения, на что Аристотель справедливо замечает, что в таком случае не может быть никаких различных мнений, более того, практически не может быть ошибок. Его возражение против платоновского учения об идеях носит номиналистический характер: «Я вижу, о Платон, коня, но не лошадь». На то же возражение киника Диогена, что он видит стол и чашу, но не их сущность, Платон, как говорят, ответил: «Совершенно верно, ведь у тебя есть глаза, которыми видят стол и чашу, но нет ума, которым видят сущность».
На фоне этих регрессий сократической мысли выгодно выделяется учение мегарика Эвклида, который признает, что сократическая диалектика должна быть дополнена физикой, и поэтому понимает значение логического реализма. Но это правильное понимание не реализуется, поскольку он придерживается элеатской доктрины, которая возвращает его к номинализму. Он, правда, хочет смягчить жесткую доктрину бытия, приписывая этические предикаты Всеединому: «Единое, – заявляет он, – есть в то же время Благо, которое называют разными именами, иногда мыслью, иногда Богом, иногда Духом»; но это улучшение не является улучшением, поскольку из него он делает вывод, что противоположности этих понятий, а значит, и Блага, не имеют реальности. Точно так же учение о бытии портит для него понятие добродетели, поскольку он также представляет ее как то, что лишь называется разными именами. Как и элеаты, мегаряне отвергали восприятие как источник знания, и Платон вполне мог иметь их в виду, когда говорил о тех, кто «превращает в пыль телесный мир и приписываемые ему истины». Не исключено, что они также опирались на сократовские общие понятия, в которых отдельные вещи также рассматривались как принадлежащие доксе. Подобно тому как сократовский агатон [благо – wp] они связывали с en [бытием – wp], они могли считать истинной сущностью «мыслимые и бесплотные основные формы», как это делает Платон в процитированном отрывке в отношении тех противников телесного мира, которых он называет «друзьями идей». Как впервые предположил Шлейермахер, Платон имел в виду мегарян, которые, можно сказать, первыми перенесли логический реализм Сократа в метафизическую область и тем самым непосредственно распространили платоновскую доктрину идей. Разумеется, платоновская доктрина нуждалась в еще одной точке опоры, которую никто из сократиков, увязших в монизме и потому постоянно подверженных сползанию в субъективизм, не принимал во внимание: пифагорейский идеализм.
Literatur – Otto Willmann, Der Nominalismus der Sophisten und der Realismus des Sokrates, Geschichte des Idealismus I, Braunschweig 1894.
Гуго Шпитцер (1854—1937)
Номинализм и реализм
Слова номинализм и реализм используются для обозначения двух противоположных концепций отношения понятий к отдельным вещам, с одной стороны, и к интеллекту – с другой, которые коренятся в двух принципиально различных способах переживания мысли, противостояние которых проходит через всю историю философии и не раз проявлялось в спорах между различными школами мысли. Реализм допускает существование понятий до вещей (universalia ante rem), представляя их как реальные сущности, существующие вне интеллекта («universalia sunt res extra intellectum»), тогда как номинализм рассматривает эти универсалии, понимаемые как отличные от отдельных вещей, как субъективные сущности («idea non habet aliquid rei»), просто имена: nomina или flatus vocis [дыхание воздуха – wp], которые разум абстрагирует только от индивидуальных объектов, следовательно, они также имеют созерцание этих последних в качестве необходимой предпосылки (universalia post rem [общие понятия следуют после вещей – wp]) Реалистический способ концепции едва ли представлен где-либо более чисто, чем в платоновском учении об идеях. Здесь общее, понятие, не зависит от отдельных предметов и действительно существует до них; более того, мир идей даже наделяется более высокой реальностью, чем индивиды kosmos oratos [видимого мира – wp], которые имеют свои модели в идеях. – Не только сенсуализм Протагора, на который предпочитал ссылаться Платон, должен рассматриваться как номиналистический контраст реализму платоновской философии, но и атомизм Лейциппа, Демокрита и Эпикура среди систем античности может рассматриваться как пример метафизически реализованного номинализма. В атомизме конечными принципами, причинами всякого бытия и становления являются отдельные физические вещи, а соответствие природных существ – лишь результат их соответствующего состава, а не следствие идеи, которая заложена в них и формирует их. Таким образом, значимость этих двух принципиально разных способов концепций очевидна уже в греческой философии до Аристотеля.
Если же в описаниях истории философии противоположности номинализма и реализма рассматриваются только в связи со схоластикой, то такая процедура оправдана тем, что они вышли на первый план в схоластический период и только в этот период получили свое название. Со свойственной средневековой мысли тонкостью, которую легко объяснить отношениями зависимости, в которых оказался разум, были проведены исследования реальности общих понятий, и наряду с резко противоположными крайностями, обозначенными именами Росцеллина и Ансельма, вскоре возникли посреднические тенденции, одна из которых, обозначенная как концептуализм и представленная главным образом в работе «de generibus et speciebus», ранее в основном приписывалась Петру Абаларду, В то время как другая, школа Дунса Скота, предполагала реальное существование идей, но делала уступку номинализму в том, что чувственное восприятие отдельных вещей должно предшествовать осознанию универсалий («idea est species, sive conceptus universalis, formatus ab intellectu ex re, sensibus percepta»). Теперь нет сомнений в том, что концептуализм, последовательно проводимый в жизнь, должен привести к номинализму, и что разница между ними в конечном счете сводится к простому различию слов. Что же касается уступки скотистов, то ясно как день, что она вообще не затрагивает реальной проблемы, поскольку решает лишь психологический вопрос о происхождении, но не метафизический или гносеологический вопрос об обоснованности общих понятий. Таким образом, оппозиция номинализма и реализма остается в своем первоначальном виде.
Учитывая характерную для всего этого периода тесную связь между философией и позитивной церковной догматикой, не стоит удивляться тому, что спор между Ансельмом и Росселлином был поставлен в прямую связь с богословскими вопросами и что номиналистское воззрение отстаивалось, в частности, вместе с догматом о Троице. Поначалу, поскольку оно не проходило проверку этой важной доктриной Церкви, так как Росселлин учил тритеизму с полной последовательностью, оно должно было казаться гетеродоксальным [отклоняющимся от преобладающей доктрины Церкви]; но богословие вполне могло предчувствовать, что его противостояние номинализму лежит глубже и что на карту поставлен не один догмат, если этот образ мышления прорвется повсюду. Таким образом, реалистическое направление было решительно поддержано Церковью.
Когда с пробуждением естественных наук пришел конец безусловному авторитету Аристотеля, а вместе с ним и схоластики, когда философия после долгого, пустынного периода рабства и порабощения впервые попыталась самостоятельно сориентироваться в мире, когда интерес мысли вновь обратился к природе, которая более тысячелетия была лишь предметом искаженного изображения, набросанного спиритуализмом Средневековья, или, самое большее, схемой аристотелевской физики, но не ее реальностью, – тогда затянувшийся спор между номинализмом и реализмом отошел на второй план перед другими проблемами, решение которых поставила перед собой философия более поздних времен. Но даже если эти противоположности уже не доминируют в философских исследованиях так явно, как в эпоху схоластики, они не перестают оказывать свое влияние. Невозможно представить себе, чтобы какая-либо философия, за исключением, например, скептицизма и чистого идеализма в версии Фихте, полностью уклонилась от них; каждая философия должна, осознает она это или нет, занять определенную позицию по отношению к ним, и формирование всей системы будет в значительной степени определяться этой позицией. Нередко возникает и такой интересный феномен, что наряду с более или менее номиналистической теорией познания соседствует вполне реалистическая метафизика, то есть реальность общего понятия вне интеллекта отрицается в теории, но в реальной концепции системы вещей универсалии рассматриваются как реальные потенции, прекраснейшим примером чего является античный стоицизм. – Как не может быть мировоззрения, которое, даже не задумываясь над ним, не отвечало бы на вопрос об идеальности или реальности феноменального мира в определенном смысле, так нет и такого, которое не предполагало бы определенного ответа на вопрос о чисто субъективной или объективно-реальной действительности общих понятий. И как отношение метафизики к этой наиболее выдающейся проблеме современной эпистемологии имеет для нее фундаментальное значение, так и ее отношение к старому спорному вопросу схоластических логиков также претендует на высшую значимость. История новейшей немецкой философии служит наглядным доказательством того, какую важную роль играют «реализм» и «номинализм», как глубоко они вмешиваются в формирование философских систем, даже если лично они не выступают на поверхности и находятся, так сказать, лишь за кулисами.
Фихте, который намеревался завершить критицизм устранением вещи-в-себе, стоящей напротив эго, заложил тем самым основу для того некритического отождествления субъективного и объективного, которое утвердилось в немецкой философии после Канта и благодаря которому реалистический способ концепции смог достичь в нашем веке, пусть и на короткое время, совершенно необычайного перевеса [Übergewicht – wp]. Фихте в первую очередь сделал возможной философию тождества: отменив не только видимость вещи, но и саму вещь как нечто, существующее само по себе, вне «я», и превратив ее в концепцию, сделав таким образом сознание самим бытием, он разрушил оппозицию идеального и реального, на которой как раз и строился фундамент кантовского критицизма. Реальное теперь совпадало с идеальным, объективное с субъективным, и даже если бы Фихте перенес точку тождества обоих на субъективное, отсюда легко можно было бы перейти к так называемой философии тождества sensu strictiori, которая видит в безразличной области, лежащей посередине между субъективным и объективным, один общий источник, из которого проистекают оба. Фихте действительно рассматривался Гегелем как философ тождества, но с тем ограничением, что он не смог сделать принцип тождества принципом системы и удерживать его как таковой.
«Тождество, – говорит Гегель (сравнивая принцип философии Шеллинга с принципом Фихте), – в системе Фихте тождество лишь конституировало себя в субъективный субъект-объект. Это требует дополнения объективным субъектом-объектом; так что абсолютное представляет себя в каждом из двух, находит завершение только в обоих, как высший синтез в уничтожении обоих, в той мере, в какой они противоположны, – как их абсолютная точка безразличия включает оба в себя, рождает оба и рождает себя из обоих».
Философия тождества Шеллинга, таким образом, возникла как необходимое «дополнение» к идеализму Фихте. Его абсолют, по отношению к которому, как истинно реальному, эго и не-эго обладали одинаковым количеством или одинаковым объемом реальности, в котором субъект и объект были едины, действительно определялся им как разум, но как разум, который, в отличие от нашего обычного разума, не несет в себе характера субъективности, а является разумом без эго, то есть прежде всего без конкретного чувственного носителя, то есть безголовым разумом. Но каково отношение этого всеобщего разума к отдельным вещам, то есть к их отдельным ощущениям и идеям – ведь даже материальные, телесные объекты были с этой точки зрения лишь как бы застывшими ощущениями и идеями, вся природа – «застывший», «замороженный» интеллект; как в этом всеобщем мышлении возникает полнота отдельных мыслей-сущностей? Гегель был особенно озабочен ответом на этот вопрос, столь важный для философии тождества; ему недостаточно было доказать, что все конечное происходит из Абсолюта: он хотел выяснить природу этого происхождения из Абсолюта и таким путем пришел к тому, что Абсолют предстает в прогрессивном развитии понятий. В философии Гегеля реалистический способ концептуализации праздновал свой самый блестящий триумф: весь мир покоился на понятиях, и мировой процесс был не чем иным, как движением понятий, переходящих друг в друга. Это очевидно: реализм гегелевской философии восходит к Фихте как ее первооснователю и родоначальнику; благодаря полному устранению границы между реальным и идеальным, вещью и понятием, так резко зафиксированной Кантом, была дана свобода превращать идеи в реальность, понятия в вещи. Философия Фихте, таким образом, имеет косвенное отношение к реалистическому способу концептуализации; но она также имеет определенную связь с ним, если рассматривать ее изолированно. Прежде всего, утверждение номинализма о том, что реальны только отдельные вещи, а общие понятия всегда лишь мыслимы, теряет с его точки зрения всякий смысл. Ведь если не-Я, мир, природа были чем-то, постулируемым эго, продуктом самоограничения эго в результате непостижимого «импульса», если объект, таким образом, был обязан своей реальностью только реальности субъекта, то незаполнимая пропасть между трансцендентальной реальностью вещи-в-себе и реальным существованием в сознании исчезла, бытие совпало [zusammenlaufen – wp] с мыслимым бытием, реальность объекта в себе с реальностью объекта в эго, и если еще оставалась дихотомия между эго и не-эго, субъективным и объективным, определяющим и определяемым эго, то она была опосредована понятием количества и субстанциальности эго, благодаря чему субъект, имеющий объект вне себя, представал как частичный и случайный субъект. Теперь, что касается реальности понятий по отношению к реальности отдельных внешних вещей, номиналистическое различие между чисто субъективной реальностью первых и объективной, на языке Канта трансцендентальной, реальностью вторых должно было рухнуть в ничто; отдельные вещи имели не больше реальности, чем понятия; одно, как и другое, было res extra intellectum [реальностью вне разума – wp]; обе реальности были только унаследованы от реальности Я, и в этом отношении обе стояли на одном уровне. Но это фихтеанское ego, эта бесконечная, единственно реальная субстанция – если вообще можно применить термин «субстанция» к принципу чистой активности – сама по себе кажется реализованным общим понятием, а именно ego, существующим в бесчисленных индивидуальных умах, воспринимаемых как единый субъект, когда узнаешь, что «все индивиды включены в одно великое единство чистого духа». Тем не менее, такой взгляд на принцип философии Фихте был бы решительно неверным; ведь даже если мы хотим назвать идеализм Фихте, как Шеллинга и Гегеля, «объективным» и противопоставить его идеализму Шопенгауэра как субъективному идеализму, нельзя упускать из виду, что в основе понятия Я лежит только субъективное сознание, собственное Я мыслителя, и что всякое другое Я получает реальность только от него и через его посредничество. Таким образом, «я» Фихте не абстрагируется от всех эмпирических индивидуальностей и впоследствии не поглощает их вместе со всем остальным миром: скорее, оно изначально абсолютно индивидуально и лишь позднее приобретает всеобщий характер. Однако эта универсальность абсолютного субъекта настолько возросла во второй период философствования Фихте, что его уже не разрешалось называть Я, а давалось имя «Бог», чтобы его отличие от «аннигилирующей оболочки» эмпирического Я проявилось достаточно четко. Идеализм, таким образом, превратился в своеобразный монопневматизм [учение о реальности как проявлении духа – wp], который в отношении учения о непрерывности отдельных предметов мысли почти до некоторой степени напоминал монопсихизм Аверроэса [реальность имеет психическую природу – wp].
Если при всех косвенных связях Фихте с реализмом принцип его философии следует искать в сфере, куда еще не доходят решающие здесь противоположности, то Шеллинг, напротив, уже предстает как представитель однозначного реализма, нашедшего свое воплощение у Гегеля. Отличие Шеллинга от Фихте заключается главным образом в том, что он придавал природе более высокое значение. То, что Фихте считал мертвым бытием, теперь получило душу и жизнь, и это различие ни в коем случае нельзя отменить тем, что вначале был еще дух, из которого природа получила всю жизнь. Как только в природе был признан принцип активности, позиция чистого идеализма была уже отброшена, хотя природа по-прежнему представлялась продуктом эго, и, следовательно, ее жизнь, ее активность проистекали только из эго. Ибо эго, которое проявляется в силах материи, в физических явлениях притяжения и отталкивания, а также в создании идеального мира и в свободном действии, которое не менее активно в бессознательной продуктивности природы, чем в сознательном производстве духа, это уже не чистое, идеалистическое эго, для которого только сознание является истиной, а внешний мир в своей совокупности – это видимость ограничения, отброшенная вовне, посредством которой сознание сдерживает себя в своей деятельности. Это «я» уже не является исключительным предметом философии Фихте; оно само уже есть безразличие субъективного и объективного, которое Шеллинг вскоре явно возвел в принцип и которое теперь представляет собой особый характер его системы тождества. Теперь Шеллинг окончательно порвал с идеализмом Фихте: он не определял абсолютное ни односторонне как ego, дух, субъект, ни просто как non-ego, природа, объект; только чистое тождество субъективного и объективного было абсолютным разумом, который можно было постичь через орган интеллектуального созерцания. Философия Шеллинга на этом этапе, который можно считать самым решающим для его суждения, не оставляет сомнений в том, что она покоится на глубоко реалистическом фундаменте. Его абсолютный разум, полное безразличие субъективного и объективного, – это абстракция, гипостазированная как реальное бытие, а именно общее бытие, в котором встречаются природа и дух, как бытие, существующее само по себе, в отличие от обоих, как истинная вещь-в-себе, сущность всех вещей.
При таком понимании Абсолюта необходимо было, чтобы во всех конечных вещах, которые выступают как реальные, природные или как идеальные, духовные, также предполагалось переплетение обоих моментов и в отношении их допускалось только количественное различие, состоящее в плюсе субъективности или объективности, но не допускалось качественного противопоставления. Но поскольку Абсолют стремится представить себя как чистое тождество во всех вещах, это неравенство, это преобладание одного момента над другим в определенной сфере конечности должно было уравновешиваться тем, что Абсолют постоянно переходил в другую сферу, в которой отношение между субъективным и объективным становилось иным. В соответствии с этим основным представлением Шеллинг конструировал природу. В природе, которая в целом определяется вторжением объективного, субъективное также постепенно прорывается наружу, и в зависимости от соотношения этих двух моментов можно выделить три стадии развития природы: механический, динамический и органический природный процесс. В механическом процессе больше всего преобладает объективное; здесь господствуют материя и гравитация (А1). Динамический процесс, в котором господствует потенция света (А2), уже демонстрирует более высокий импульс субъективного; однако только в жизненных явлениях материя теряет свою самореальность и становится подчинена субъекту, который теперь входит, духу жизни (А3). Субъект или дух органической природы теперь работает с этими потенциями, со светом и материей, как со своими собственными.
«Материя, таким образом, больше не рассматривается как субстанция; в действительности организм является организмом не благодаря материальной субстанции, которая постоянно меняется, а только благодаря природе или форме своего материального бытия. Жизнь зависит от формы вещества, или форма стала сущностью жизни. Поэтому деятельность организма имеет своей целью не непосредственно сохранение его субстанции, а сохранение субстанции в этой форме, в которой она есть именно форма существования высшей потенции (A3)».
«Организм получает свое название именно от того, что то, что раньше казалось для него самого, теперь является в нем только орудием, как орган более высокого. В более раннем процессе – материя утверждает свою самость и принимает в себя те формы деятельности, которые мы назвали магнетизмом, электричеством и химизмом, только как случайности. Неорганическое тело может находиться в электрическом состоянии или нет, без ущерба для себя, но формы активности органической материи для него существенны; мышца, например, задуманная без способности к сокращению и расширению или без раздражимости, фактически перестала бы быть мышцей».



