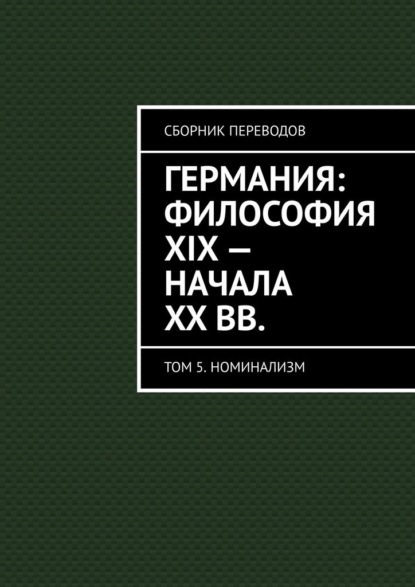
Полная версия:
Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 5. Номинализм
С антропологией принято отождествлять тенденцию так называемых юнгианцев, которые отменили потусторонность идеи и эзотерически осмыслили категории логики, так что развитие бытия природы на самом деле не предшествовало эволюции понятия, в результате чего мир, этот «агрегат конечности», к которому Гегель относился столь пренебрежительно, очевидно, должен был получить асеити [aus sich sein – wp]; и разве Фейербах также нередко рассматривается как юнгианец par excellence [beispiellich – wp]. Несомненно, что в своих публикациях до 1842 года он приближался к этой точке зрения, если не сказать, что придерживался ее с самого начала; но было бы неверно оценивать разницу между поздним сенсуалистическим периодом и периодом, когда мысль Фейербаха еще находилась под влиянием Гегеля, если бы рассматривать антропологию как представление этого направления. Уже отмечалось, что позднюю доктрину Фейербаха следует понимать скорее как антитезу гегелевской философии, порожденную неадекватностью самой диалектики понятий, как полное отрицание и противопоставление гегелевской философии, а с последней лишь в той мере, в какой она непосредственно вытекала из нее и получила свои положительные результаты благодаря критике гегелевских принципов; Поэтому, конечно, она также оставляла без обсуждения проблемы, совершенно далекие от этой некритической метафизики; но совершенно иное следует сказать о направлении юнгианцев-гегельянцев, которое по праву носит это имя. Если антропология признает реальность понятий или идей только в пределах субъективного духа, то юнгианство, напротив, признает за ними объективную реальность, но определяет их как категории природы и, конечно, сознания, выходящего из природы или соприродного ей, тем самым секуляризируя их и лишая права на отдельное существование, которое у Гегеля, если вообще можно доверять формулировке его учения, им, несомненно, причитается. Согласно этому, диалектический процесс в рамках логики имеет, как справедливо, лишь логический, формальный смысл, а понятие обретает реальность или объективную сущность лишь как принцип существования природы. Решение идеи,
«момент ее особенности или ее первой решимости и инаковости, непосредственная идея как ее повторное появление, чтобы свободно освободиться от себя как природы»,
Это самоопустошение понятия превращается из реального акта в метафорическое выражение чисто логического отношения; реальное предсуществование идеи отменяется, хотя ее концептуальное предсуществование остается, и процесс опосредования абсолюта становится космическим на всех его уровнях. Строгое и непрерывное совпадение понятийного движения с явлениями природной жизни характеризует юнгианский взгляд. Так, формальное творение организмов, предполагаемое Гегелем, является для него абсурдом: он защищает первозданное творение или физическое творение вообще, если только не отбрасывает всякое архебиотическое [биологическое происхождение – wp] воззрение и не держится за семперность [Stetigkeit – wp] жизни. Однако концепция определяет природные процессы: «Дух – это власть над природой, но только дух, который безмолвно действует в природе как ее закон и инстинкт становления» (Штраус). «Реальное существование» концепта – это природа, поэтому его развитие идет параллельно с существованием мира и материально-космических процессов.
Поскольку в качестве представителей младогегельянской школы выступают многочисленные философы, в воззрениях которых можно различить самые разнообразные оттенки, последняя, понятно, может быть охарактеризована здесь только по ее общей тенденции, по внутреннему, движущему принципу, который иногда выражен более полно, иногда менее полно. Ее отличие, с одной стороны, от антропологии и, с другой стороны, от собственно гегелевского учения, а также ее промежуточное положение между ними достаточно ясно из сказанного: утверждая реальность идей, она противостоит концептуальному сенсуализму Фейербаха и в принципе стоит на позициях Гегеля; однако, ограничивая эту реальность идеями, имманентными природе (и человеку), отменяя тем самым трансцендентность понятий (т. е. в своем смысле), она выходит за пределы царства идей. т.е. в своем смысле), она отходит от строгого соблюдения системы и в ответах на все космологические вопросы, поскольку учитывает только внешнюю сторону событий, совпадает с антропологическим взглядом. Как философия Гегеля соответствует крайнему реализму, а антропология – строгому номинализму, так и направление юнгианцев-гегельянцев соответствует концептуалистскому подходу. Кстати, учитывая большую податливость, не говоря уже о двусмысленности, гегелевской доктрины, не стоит удивляться тому, что юнгианцы представили себя как ее единственно верные и подлинные представители. В конце концов, даже материализм 1950-х годов все еще частично связан с Гегелем, как ясно показывает глава физиолога и бывшего гегельянца Молешотта. Этот знаменитый лидер «материального мировоззрения» приписывает Гегелю не только устранение вещи-в-себе, заполнение пропасти, которую Кант разорвал между бытием и мышлением; Следы гегелевского концептуального реализма безошибочно прослеживаются и в «Круговороте жизни» Молешотта, главном произведении материализма того времени, в часто употребляемых и отнюдь не гилозоистических фразах о «духе» или «мысли», которые «живут повсюду в материи», и в любом случае вина за материалистическую путаницу понятий лежит на диалектике, которая «опосредует» самое разнородное и «нивелирует» все резкие различия в понимании: Сила, Дух, Идея, играет не последнюю роль. Здесь следует отметить, что химический материализм не позволяет прийти к строго и абсолютно механистической концепции мира, поскольку для него силы, присущие отдельным основным веществам, являются такими же qualitates occultae [тайными силами – wp] или элементарными формами природных явлений.
Еще более решительно, чем антропологизм, мыслитель, идущий от Канта, чья характерная позиция и антитеологическая тенденция напоминала Фейербаха, выступал против Гегеля и боролся с его основной идеей как с «абсурдной», – а именно
«а именно: сделать общие понятия, которые мы абстрагируем от эмпирического представления, которые поэтому возникают через умозрение определений и являются, следовательно, более общими, более пустыми, первыми, первоначальными, истинно реальными, в результате чего эмпирически-реальный мир имеет свое существование в первую очередь».
Но тот же Шопенгауэр, который назвал философию Гегеля «пародией на схоластический реализм», сам стремился восстановить действительный источник этого реализма, платоновское учение об идеях, с помощью трансцендентального различения мира как представления и мира как вещи-в-себе.
«Первоначальное и сущностное единство идеи, – учит Шопенгауэр, – раздроблено на множество отдельных вещей чувственным, мозговым восприятием познающего индивида».
Поэтому именно высшая объективность интеллекта позволяет вновь возникнуть платоновским идеям отдельных вещей.
«Но то, что теперь является платоновской идеей, рассматриваемой как простой объективный образ, как простая форма и тем самым выведенной из времени, как из всех отношений, есть, взятое эмпирически и во времени, вид или род: это, следовательно, эмпирический коррелят идеи».
В виде Шопенгауэр видит реальное единство, истину logos spermatikos [зародыша разума – wp] стоиков и схоластической forma substantialis [общей формы индивида – wp], объективность отдельного уровня воли, и уже из одного этого становится ясно, насколько мало глубокого согласия его образа мышления с современной дарвиновской биологией можно извлечь из взглядов на происхождение, которым он отдавал дань уважения. Шопенгауэр наверняка не отказался бы от своего неблагоприятного суждения о теории Дарвина на основании короткой рекламы, если бы познакомился с ней поближе.
Во «Фрагментах по истории философии» Шопенгауэр подробно рассказал о своем отношении к реализму и номинализму и защитил обоснование реализма, но с добавлением, что на самом деле оно принадлежит не ему, а платоновской теории идей, продолжением которой он является.
«Это вечные формы и свойства природных вещей, eide, которые сохраняются при всех изменениях и которым поэтому следует приписывать реальность более высокого рода, чем тем индивидам, в которых они предстают. С другой стороны, это не следует приписывать простым абстракциям, которые нельзя наглядно продемонстрировать: что, например, реально в таких понятиях, как пропорция, разница, различие, недостаток, неопределенность и т. п.?»
Эта оговорка имеет огромное значение, поскольку указывает на существенное отличие учения об идеях Шопенгауэра от концептуального реализма Гегеля и позволяет понять, как Шопенгауэр, несмотря на свое платонизм, мог быть яростным противником той философии, которая раскручивает мир из чистого, бессмысленного качества. Понятия, движение которых, согласно Гегелю, должно привести к появлению всей реальности, для Шопенгауэра – всего лишь абстракции, не претендующие на реальность, принадлежащую видовым понятиям.
Однако при более глубоком рассмотрении вскоре обнаруживается еще одно различие между реализмом Шопенгауэра и реализмом Гегеля. У Гегеля понятие как таковое реально, поэтому абсолютное знание постигает понятие в стихии мысли или как понятие, тем самым оно возвышается над религией, которая, даже будучи «явленной религией», не преодолевает форму понятия. С другой стороны, всему характеру глубоко описательного мышления Шопенгауэра соответствует то, что идеи не берутся как «общности», «мысли» или понятия для реальных существований, а рассматриваются в этом виде как простые перцептивные формы вещи-в-себе, находящейся за пределами воображения. В действительности, по мнению Шопенгауэра, платоновская идея или понятие вида в мире вещей-в-себе соответствует наглядно воспринимаемому единству, которое ни в коем случае не может быть воспринято как понятие, хотя оно может быть вновь произведено только интеллектом, который до этого раздробил его на множество отдельных вещей, расположенных рядом и отдельно друг от друга, посредством пространственного способа восприятия, путем абстракции, то есть как общее понятие. То, что Шопенгауэр представлял себе единство рода целиком под образом наглядного, чувственно-индивидуального единства, а вовсе не как абстрактно-понятийное, вытекает также из его известного метафизического обоснования морали и объяснения симпатических аффектов, которое чрезвычайно доходчиво раскрывает своеобразный характер его учения об идеях.
Нельзя не упомянуть и об одном из оригинальных взглядов Шопенгауэра.
«Номинализм, – утверждает он, – на самом деле ведет к материализму: ведь после упразднения всех свойств в конце концов остается только материя. Если понятия – это просто имена, а отдельные вещи – реальное, то их свойства, как индивидуальные в них, преходящи; тогда остается только материя как непреходящее, а значит, и реальное».
Несомненно, однако, что в своей борьбе с «материализмом» Шопенгауэр руководствовался почти в такой же степени своими реалистическими или платоновскими основополагающими взглядами, как и принципами критики Канта, и что поэтому он отвергал [отвергал – wp] в особенности любое механическое объяснение мира. По его мнению, даже при желании придерживаться полностью объективистского подхода, следует исповедовать не фактический материализм, а лишь «натурализм»; а именно, не пытаться приписывать конкретные, типичные формы природных явлений механически-материальной причинности и не отказываться от платоновских идей.
Как бы ни относиться к учению Шопенгауэра как к реализму, нельзя игнорировать его специфическое отличие от других реализмов, появившихся в истории современной философии, в частности от реализма Гегеля. Складывать его с последним без дальнейших рассуждений было бы так же неверно, как, например, предположить вместе с некоторыми авторами, что идея пантелематизма [Allwillenslehre – wp] Шопенгауэра была предвосхищена уже Шеллингом, и не учитывать, что Шопенгауэр в обосновании своего принципа исходит из предпосылки, прямо противоположной философии тождества, из «полного разнообразия [Verschiedenheit – wp] идеального и реального». Из того, что самое чистое, наименее субъективно окрашенное проявление [Erscheinung – wp] вещи-в-себе, искаженное рассудком, дано в воле, известной нам изнутри нас самих; Шеллинговское «воля есть изначальное бытие» на самом деле не имеет к этому почти никакого отношения, и учение об идеях, основанное на разрыве между реальной сущностью мира и его понятийными образованиями, – это нечто совсем иное, чем некритическое возведение понятий в реальность, характерное, в частности, для философствования гегелевской школы.
Если Шопенгауэр ограничивал принцип индивидуации исключительно эмпирическим миром внешности, то Гербарт возвысил этот принцип до метафизического значения. Философия Гербарта в высшей степени плюралистична и индивидуалистична: его реальности на самом деле являются индивидами, атомами – индивидуальными существами, которые не только физически, но и в воображении неделимы. По этой самой причине, однако, их нельзя считать материальными, поскольку понятие материи подразумевает количественную определенность, но количество также обязательно подразумевает делимость в логическом или, скорее, психологическом смысле. Материя, основным свойством которой является расширение в пространстве и силы которой выражают себя как движение в пространстве, также принадлежит, по Гербарту, только видимости; вещи-в-себе должны быть поняты как непространственные существования, поскольку реальное не может быть чем-то составленным в себе. Метафизика Гербарта совпадает с философией Шопенгауэра в том, что она наделяет материю лишь видимостью-реальностью; однако она существенно отличается от последней тем, что определяет реальное, лежащее в основе материальных явлений, как многообразное индивидуальное, причем так, что в эмпирическом мире оно соответствует не виду или какой-либо другой общности, а индивидуальной характеристике отдельной вещи. А поскольку с множественностью реального одновременно происходит и соположение одного и того же, что представляет собой интеллигибельный космос, то реальные отношения можно принять и за основание эмпирического космоса, который, таким образом, не является плодом воображения, простым субъективным дополнением рассудка, как у Шопенгауэра, а проистекает из реальных отношений вещей друг к другу.
Позиция Гербарта по вопросу о реальности общих понятий уже обозначена его метафизикой; она тесно связана с ней, когда он видит обман в платоновском учении об идеях и называет его «преувеличением» философов, которое можно объяснить психологически из стремления удержать понятия как объекты мысли, отчасти в себе, отчасти еще более в других, «чтобы они поставили понятия в ряд реальных объектов». Гербарт обращается к шеллингианцам с классическими словами, к которым и сегодня стоит прислушаться эпигонам натурфилософии:
«Ни одно дыхание платонизма не должно быть допущено к действительному изучению природы; оно покоится непреложно на понятиях субстанции, силы и движения, а не на сочетании идей и бесформенной материи».
Индивидуализм Гербарта настолько же отличается от сенсуалистического индивидуализма антропологии, насколько реальности, существующие только в умопостигаемом пространстве и удаленные от времени, отличаются от природных существ, формами существования которых являются пространство и время. Характеристика, в которой последние сходятся с первыми, – это сингулярность или индивидуальность. Если антропология, однако, объявляла индивидуальное основой или предпосылкой реальности лишь постольку, поскольку оно противоположно общему, то Гербарт стремился утвердить то же самое постольку, поскольку оно противоположно составному. К единичности или индивидуальности в смысле номинализма Гербарт добавил простоту как критерий реальности.
Общепризнанно, что относительно точный образ мышления Гербарта, воздерживающийся от причудливых спекуляций, ни в одной области не принес более прекрасных плодов, чем в психологии, и именно на номиналистическом методе основывается его самая важная и неоспоримая заслуга – разрушение психологической теории факультетов. Душевные способности были настоящими универсалиями старой психологии. Общие понятия: воображение, чувство, воля – гипостазировались как реальные единые силы [приписывание объективной реальности слову – wp], в которых индивидуальные воображения, чувства и волевые акты имеют свое основание, так же как индивидуальное природное событие определяется и основывается идеей, выраженной в природе. Поэтому изгнание Гербартом душевных способностей из психологии заслуживает такого же значения, как и изгнание платоновских идей из натурфилософии, в чем Гербарт также принимал участие. Однако его реформа психологии могла бы быть гораздо более основательной и более соответствующей требованиям науки, если бы догматические соображения не помешали ему отказаться от суеверного [сомнительного – wp] представления о душе, источника многочисленных ошибок и заблуждений. Гербартовское царство души, которая ради христианской веры продолжает свою воображаемую игру после смерти, где сняты все запреты и даже не нарушается бесконечность, является крайне пагубным вымыслом для науки, который даже ценность этой в высшей степени важной реформы делает в немалой степени иллюзорной. Это выдуманное и придуманное единство находится в самом вопиющем противоречии с множественностью ганглиозных клеток головного мозга, комплекс которых сегодня уже никому не приходит в голову рассматривать как простой питательный аппарат, большое количество которых, несомненно, представляет собой истинные «клетки души», как называл их Геккель. Поэтому здоровая, физиологическая психология на гербартианской основе немыслима, и очевидно, что концепция «реального» в психологической области, по крайней мере в том виде, в котором она была предпринята Гербартом, противоречит научному знанию о жизни души. По превосходной трактовке некоторых психологических пассажей, в которых он смог воздержаться от ложной базовой концепции простого душевного существа, можно судить о том, насколько пагубной была для мышления Гербарта эта предпосылка, произвольно сделанная в пользу теологии.
Кроме Гербарта, следует упомянуть и Бенека, которому, хотя он и отдавал дань полностью спиритуалистическому воззрению, не помешала обманчивая концепция души-монады в версии Гербарта. Бенеке заслуживает похвалы как философ, который наиболее четко и последовательно подчеркивал номиналистический подход к психическим явлениям. Он борется с традиционной гипотезой о факультетах не менее радикально, чем Гербарт, и совершенно недвусмысленно демонстрирует, что эта борьба ведется с индивидуалистических или номиналистических позиций.
«Кто-то совершает ошибку, – говорит он, – предполагая для всех душевных развитий, согласующихся друг с другом по форме (для всех понятий, для всех желаний, для всех воль, для всей рациональности и т. д.), единую фундаментальную способность или общую силу, с помощью которой они должны работать. Но из того, что они логически или для нашей концепции едины (единодушны), отнюдь не следует, что они должны быть также реальны или в своей психической основе едины (непосредственно связаны). Поэтому, в отличие от предыдущей процедуры, мы должны сначала подчинить способности или силы развитию, которое представляет нам наше самосознание, в тех деталях, в которых мы воспринимаем сознательное развитие, и только затем сделать специальный запрос о том, связаны ли и в какой степени их внутренняя душа или способности, на которых они основаны, друг с другом; где становится очевидным, что между силами одной и той же формы время от времени возникают связи, но не настолько обширные и всепроникающие, чтобы мы могли с полным основанием приписать человеку разум, способность желать, волю, рассудок и т. д.». и т.д.»
«Все способности понимания, воления и т. д. основаны и действуют индивидуально; мы видим, как один и тот же человек понимает одну вещь хорошо, а другую плохо; желает одну вещь властно, а другую бессильно и т. д. – Как же это можно согласовать с единым разумом, чувством, волей и т. д.? – У (образованного) человека не один разум, не одна сила суждения, не одна воля и т. д., а тысячи сил понимания, суждения, воления и т. д.».
Здесь мы действительно сталкиваемся с крайними последствиями номиналистической теории души; однако нельзя не заметить, что этот результат исследований, направленных исключительно на внутреннее «я», прекрасно согласуется с требованием, которое так часто с большой уверенностью выдвигают физиологи, а в последнее время и английские психологи (BAIN), о «раздельном воплощении идей в мозге». То, что Бенеке все же не удалось поставить учение о душе на фундамент, соответствующий современной науке, которая рассматривает духовную жизнь в постоянной связи с физическими процессами, вероятно, в значительной степени объясняется спиритуалистическими предрассудками философа. Вундт в своем замечательном труде «Принципы физиологической психологии» прекрасно подчеркнул, что одухотворение механического, перенесение внешних стимулов в область психического, лежит в основе ложного представления о воображении как о существе, состоящем из двух, частично разделимых факторов, стимула и первичной способности, которое является одной из фундаментальных ошибок психологии Бенеке. Однако устранение общих сил души и замена их индивидуальными процессами, соответствующими по форме, должны быть признаны непреходящей заслугой Бенеке, в чем с ним солидарен только Гербарт; так же как его предположение, что формы, ощутимые в развитой душе, «сначала производятся более длинным рядом промежуточных процессов», приобретает совершенно особое значение в свете современной истории развития.
Так, в послекантовской немецкой философии, несмотря на преобладание реалистического подхода, нет недостатка в решительных репрезентациях номиналистического принципа: гегелевскому понятийному абсолютизму у Гербарта, Бенеке и Фейербаха противостоит энергичная позиция индивида как единственного реального. В настоящее время, с постоянно растущим влиянием точных наук о природе, нельзя отрицать усиления и укрепления номиналистического элемента, и прежде всего та тенденция, основанная на кантовской критике, которая не использует результаты этой критики в смысле фантастического идеализма, но стремится учитывать дух, а также положительные результаты естественных наук и заменяет умирающий догматизм жизненным критическим материализмом, должна быть описана как сильная поддержка номиналистического взгляда. С другой стороны, нет сомнений, что влияние философии Гегеля все более и более ослабевает, и что значение самой системы, в которой реалистический способ концепции был наиболее сильно подчеркнут, уменьшается. С другой стороны, другая форма реализма имеет еще более многочисленных представителей среди современных философов, принадлежащих к разным, но всегда теистическим школам мысли. Отличие этого реализма от гегелевского, с которым он соотносится примерно так же, как неоплатонический с платоновским учением об идеях, заключается главным образом в его персоналистической основе и поэтому полностью исчезает, если диалектическому процессу предпосылается абсолютный дух, как это делает Розенкранц. Согласно реалистическому взгляду, который здесь имеется в виду, понятия также существуют вне и до вещей, как у Гегеля, но не как сущности, существующие сами по себе и движущиеся сами по себе, а как мысли в сознании божественного духа. Каулих резко характеризует эту точку зрения следующим образом:
«Прежде всего мы должны сказать: Universalia sunt ante rem [идеи предшествуют вещам – wp], конечно, не сами по себе, etas как сущности, существующие сами по себе, но в идее природы Бога, потому что в идее твари Бог уже предначертал и эти понятия, в том, что через творческую идею не только мыслилось бытие, но и были предначертаны основные формы бытия. Мы должны также сказать: Universalia sunt in re [идеи и бытие совпадают – wp], ибо после реализации творческой идеи всеобщее существует только в частностях, в отдельных субстанциях вещества природы, в индивидах, как присущий им закон жизни и замысла, который в царстве органического передается другим вновь образующимся индивидам через половой или бесполый процесс деторождения. Наконец, мы должны сказать: Universalia sunt post rem [общие понятия следуют за вещами – wp], опять-таки не сами по себе, а для познающего мышления, ибо общее должно было раньше предстать в индивиде, прежде чем оно могло быть получено через мышление».
Если воззрение Гегеля, обосновывающее [приписывающее – wp] понятиям основанную на них самих реальность, назвать имманентным реализмом, то теистический взгляд, восходящий от реальных идей к предмету, в котором они мыслятся, можно назвать трансцендентальным реализмом; способ мышления Шопенгауэра, отличающийся от обоих, можно назвать, например, трансцендентальным учением об идеях. Что касается трансцендентального реализма, то этот взгляд также признает реализацию определенных идей, особенно в органических типах, и поэтому не рассматривает группы природной «системы» ни как простые абстракции классифицирующего интеллекта, ни как комплексы индивидов, связанных кровью и принадлежащих друг другу через общее физическое происхождение от родительского организма, но скорее рассматривает их как реальные модели природного живого мира, который был предварительно сформирован в них. В этом смысле Иммануил ГерманФихте объясняет,



