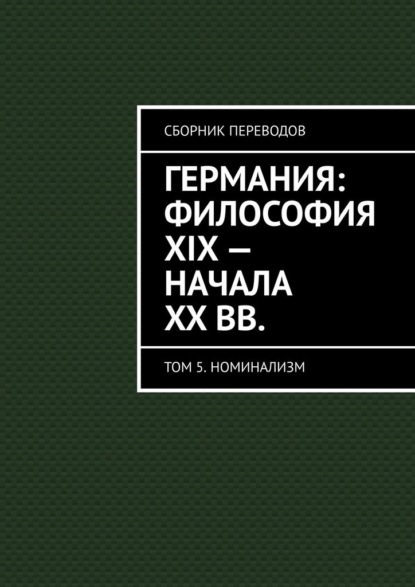
Полная версия:
Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 5. Номинализм
Наряду с позитивными доктринами церкви и их философской защитой Августином, неоплатонические фантазии также были привнесены и руководили мыслями мистиков. Но этот неоплатонизм стал лишь произведением традиции и больше никем не мыслился. Даже если его концепции повторялись, никто уже не исходил из того, что через высшую абстракцию бытия, Единого, Блага можно получить знание о Боге и из него вывести необходимость эманаций [высших начал – wp]. Самостоятельное мышление здесь руководствовалось исключительно односторонними указаниями аристотелевской логики. От того времени, когда философия начала своеобразно развиваться в монастырских школах, мы приходим к очень длительному новому развитию. Философствование восходит исключительно к диалектике Аристотеля и заменяется эпистемическим преобразованием аристотелевского логического догматизма, которое было бесконечно трудно осуществить, стало ясным, так сказать, только в иезуитских школах, но затем все еще требовало дальнейшего развития вплоть до различий, данных Кантом. Ключевое слово, собственно, остается прежним: реальность универсалий, но по мере того, как исследование переходит к спору между реалистами и номиналистами, оно приобретает существенно иной смысл. Неоплатоническая предпосылка о познаваемости общих понятий идей, то есть бесплотных субстанций, всегда остается на заднем плане, но философ отказывается от фантастической ипостаси [вменения объективной реальности мысли – wp] общего в соответствии с различиями между архетипическим и репрезентативным миром. С аристотелевской абстракцией остается только мир, для которого необходимая истина должна быть установлена непосредственно метафизически, чтобы быть схваченной в простом мышлении. Поэтому предпринимаются лишь все новые и новые попытки, и лишь немногие скептически сомневаются в их успехе. Но над этой истиной разума, недостижимой для него, но предполагающей полное согласие с ним, для всех остается вера в божественное откровение. С бесконечным трудом диалектической изобретательности масса мысли постоянно трансформируется и перестраивается, пока, наконец, в школах новейших номиналистов и иезуитов не возвращаются к простому изречению Аристотеля о том, что логические принципы – это высшие принципы. Только тогда новый спор может начаться с ясностью. Эпистемическое преобразование логического догматизма на самом деле лишь утверждает знание посредством простого мышления, не признавая непосредственности восприятия с полным логическим развитием абстракции. Это, собственно, древняя элеатская или даже пифагорейская идея, которую Платон развил более резко, Аристотель придерживался в эпагогическом ключе, которую стоики хотели избежать, которую эмпирические скептики отвергли как недействительную, но которую неоплатоники затем приняли заново с помощью своего мыслительного взгляда и прикрыли ее трудности своими фантазиями. Здесь она, наконец, становится эпистемически завершенной, загадка самоосмысления.
Мыслящий разум обладает только понятиями, поэтому реальность, сущность вещей, должна быть познана через понятия. Так должен заключить реализм; но понятия сами по себе не дают познания никакого предмета, они сами по себе не имеют никакой реальности, должен сказать номинализм, с другой стороны. Но и номинализм хочет познавать только через мышление, только через понятия; и поэтому ни тот, ни другой не видят ясно. Отсюда возникает бесконечный многословный и долгий, утомительный спор, в котором ни тот, ни другой не могут ясно сказать, чего они на самом деле хотят, ибо конфликт заключается в ложной предпосылке, общей для обоих: познание вещей посредством одного лишь мышления, без поддержки восприятия. Какие бы искусственные выражения ни использовались для выражения сущности общего и закона индивидуации, оба они остаются пустыми словами, поскольку понятие само по себе не позволяет ничего познать, а закон индивидуации противоречит сам себе, потому что индивидуальное, особенное нельзя мыслить, а можно только рассматривать. Мыслить можно только видовые различия, но не числовые. Это абсурдная мысль – хотеть представить себе различие между различными индивидуальными существами, вместо того чтобы признать его из наблюдения. В этом и заключается загадка всего спора. Если мы теперь хотим найти выход из спора путем такого простого арбитража, не вовлекаясь в путаницу неясных речей и контрречей, мы должны заранее сделать обзор, поскольку это теперь в наших силах.
Идея о том, что только мыслительное знание обладает истиной, естественным образом вытекает из замечания, что чувственно мы можем познать только то, что преходяще и изменчиво, а все необходимое и неизменное мы можем познать только с помощью мышления. Если мы хотим удержаться на этой мысли, то ей противостоит тот факт, что все действительное дано только чувствам, а не мыслящему уму, и это приводит нас к антиномии действительного и необходимого, которую мы должны сначала разрешить, чтобы овладеть этим вопросом.
Платон уже довольно точно указал на необходимое различие между частями нашего знания, проведя различие между чувственным восприятием, математическим знанием, которое представляет себе знание в схематически наглядных понятиях, и философским знанием, которое представляется только в понятиях. Но в своем применении Платон полностью отвергает чувственную концепцию изменчивого реального и помещает истину исключительно в мышление неизменного необходимого, тогда как на самом деле истина в человеческом знании может быть установлена только путем подчинения реального необходимому. Для того чтобы ясно понять эту субординацию, необходимо научиться точно применять различие между математическим и чувственным, а также философским, ибо причина различия между конечной и вечной истиной заключается не в изменчивости чувственного, а лишь в пустоте и постоянстве математических необходимых форм. Поэтому подчинение реального необходимому было опосредовано лишь кантовской доктриной чистого восприятия, через которую только и может быть по-настоящему обосновано платоновское различие между конечной и вечной истиной. В противовес Платону, Эпикур и стоики хотели обосновать всю истину только через чувственное восприятие, и поэтому в истории философии сохранилось одностороннее противостояние эмпиризма и рационализма. Аристотель и перипатетическая школа, однако, стоят между ними. В учении об эпагоге аристотелевская предпосылка совпадает со стоической, но в его учении о высших принципах мы увидели зарождение логического догматизма, который принимает фактическую истину за необходимую истину, которая устанавливается определением понятий и обосновывается высшими логическими принципами (аналитическими законами мышления). Именно с эпистемической концепцией этого логического догматизма, с этой необходимостью через простое понятие, из аналитических законов мышления, мы сейчас и стоим; это загадка всей схоластической философии, более того, в основе всех современных спекуляций. Но при такой ясности абстракции исторический вопрос не может сразу встать перед нами, но в его применении загадка впервые появляется при сопоставлении понятий формы и субстанции (forma и materia) с понятиями возможного, действительного и необходимого. Для этого мы получаем два, так сказать, противоположных логических решения – аристотелевское и баконическое. Баконианское ближе всего к современной научной абстракции.
Решение с Бэконом Веруламским мы получаем из аристотелевского различения четырех видов причин: materia, forma, efficiens, finis. Materia и efficiens реально присутствуют только в отдельном факте, но естественный процесс – это необходимая causa formalis. Деревья гибнут, древостой существует; люди гибнут, человечество существует; камни, падая и бросаясь, идут своим чередом до конца, но закон падения существует. Но здесь остается трудность. Древонасаждение, человечество, падение реальны только в деревьях, людях, падающих телах; вообще природный процесс реально происходит только в массе и ее активной силе (in materia and efficiens). Однако первая точка зрения Аристотеля, которой всегда придерживаются арабы и схоласты, существенно отличается от этой точки зрения. Он находит действительность только в развертывании индивидуального бытия, поэтому forma для него – основание действительности, определяющий фактор индивидуального бытия, в то время как материя лишь возможно придает определенные формы и поэтому называется основанием возможности. Это различие породило великую загадку substantia formalis, поскольку Аристотель не считал закон основанием форм, а только efficiens – формообразующим. Энтелехия и душа – это индивидуальные реальные существа, а не общие законы.
Поэтому фактически речь идет о том, чтобы примирить конфликт между этими двумя взглядами, старым аристотелевским, согласно которому форма – это действительное, а масса – только возможное, и новым бэконовским, согласно которому масса – это действительное, закон природы как основание формы – необходимое, а простое условие формы само по себе – только возможное. Аристотелевское решение таит в себе всю ошибочность его метафизического взгляда, новое же Бэкона принадлежит великому прогрессу философского разума, который он получил благодаря открытию методов эмпирической науки.
Но общая логическая позиция такова. Понятия (чисто номиналистически) не имеют сущности и бытия, не утверждаются только в уме. Но есть два вида общих идей (универсалий), а именно понятия и общие правила, законы. Теперь закон истинен и утверждается; таким образом, в нем заключается реальность универсалий. Но эта истинность закона сама по себе есть лишь условие необходимых детерминаций и сама по себе лишена реальности, подобно тому как, с другой стороны, восприятие реального остается без необходимости. Ни одно отношение не может быть постигнуто только мышлением, но для этого необходимы две позиции – сущности и свойства, причины и следствия, эффекта и контрэффекта, а их мы можем получить только наглядно, через время и пространство. Мы мыслим только в соответствии с отношениями и, мысля, познаем только через отношения; категории отношения – это, в конце концов, только метафизические категории. Но мыслящий разум сам по себе не обладает силой позиционирования, чтобы быть в состоянии организовать два члена отношения рядом друг с другом; в этом ему должны помочь математическая форма и факт реального. Поэтому ложная попытка определить знание только мышлением уже включает в себя высказывание Парменида о том, что существует только единое; высказывание Платона о том, что там, где это другое предполагается также тем другим, речь идет только о полуправде, и высказывание Августина о том, что Бог есть non subsistit, не substantia [субстанция – wp], а только essentia [сущность – wp]. Но, с другой стороны, мы снова признаем необходимые истины в законах и, таким образом, мыслим через понятия пропорции.
Таким образом, загадка заключается в том, следует ли реалистически брать универсалии ante rem [общие понятия порождают конкретные – wp] или номиналистически in re [универсалии существуют только на или в отдельных вещах – wp] или post rem [в действительности существуют только отдельные вещи – wp]. Кроме того, поскольку в суждении мы приписываем все свойства, все случайности [Nebensachen – wp] и приверженности [Adhärenzen – wp] вещам только в общих чертах как предикатам, легко увидеть, как этот спор можно было бы также выразить и вести как спор о природе свойств и случайностей и как спор о том, можно ли предицировать rem de re [Ding durch Realität – wp]. Ведь здесь уже заложена спорная мысль о том, можно ли называть общую вещь вещью (rem), а также о том, можно ли определение вещи, которое придают ей с помощью общего понятия, мыслить как нечто существующее само по себе. В самом деле, в нашем научном познании закон всегда является высшим; поэтому конституции и состояния вещей определяются для нас законами в соответствии с общими понятиями и, таким образом, реальностью общего. Существование отдельного человека, напротив, осознается нами непосредственно и ярко, независимо от признания необходимых законов. Только эта непосредственность и независимость визуального познания решает весь спор. Если мы хотим понять основание реальности индивида и различий отдельных существ, а не просто постичь их чисто визуальным путем, то нам остается лишь заниматься бессмысленным пустословием.
В этом номинализм имеет свою определенную ясность. Сами по себе понятия находятся только в уме, так же как они являются только мыслью. Но как они могут выйти из ума и стать объективно действительными для реализма, когда они объединяются в закон? Неоплатонизму это легко; он мистически берет мировой разум вместо моего ума и помещает в него всю истину. Но аристотелианцы не могут этого сделать, и поэтому вопрос всегда оставался неясным. Нам нужен реализм понятий, чтобы прийти к необходимому знанию, и все же мы не можем его удержать, поскольку необходимость закона остается несущественной сама по себе. Бог действительно никогда не должен мыслиться как natura naturans [первооснова вещей – wp], но он – высшее существо, а не бессущностная необходимость закона. Новейший номинализм хочет прикрыть этот недостаток, признавая в качестве принципов необходимой истины только пустые логические законы мысли, но новейший эмпиризм отвергает это оправдание, потому что пустое повторение уже данной мысли не может быть принципом для самой этой мысли. Только в сочетании с решением Оккама о том, что принцип индивидуации лежит только в представлении, кантовским различением аналитических и синтетических суждений и фактическим доказательством того, что синтетические суждения существуют a priori, этот вопрос может быть полностью прояснен.
Но даже владея этими учениями, мы можем разрешить сам вопрос только через трансцендентальный идеализм и его разрешение антиномии между судьбой и божеством. Только в трансцендентальном идеализме правильный номинализм завершается тем, что мы признаем универсалии лишь формой конечной истины в научных способах познания и поднимаем над ними идеи совершенного, то есть тем, что мы учимся отличать чувственное восприятие, чистое восприятие, понятие природы и идею друг от друга в человеческом познании и ставить их рядом.
Полное разрешение спора о номинализме и реализме требует, таким образом, чтобы мы научились вместе с Кантом отличать простую формальную необходимость в аналитических суждениях от необходимости в синтетических законах и идеях, а затем, в особенности, чтобы мы научились точно оценивать антиномии чистого разума. Решающее значение для этого имеет модальная антиномия Канта, которую он представляет как антагонизм необходимого и случайного бытия, но которая в той же мысли является антиномией необходимого и реального, божества и судьбы. Кроме того, в этих спорах нам ближе всего и чаще всего применяется антиномия простого и непрерывного. Она стоит за всеми загадками нашего спора. Вещь может быть составлена из многих вещей только в силу непрерывной связи частей, как, например, шар или куб. Разрозненные части, с другой стороны, никогда не складываются в вещь, а только в некоторое количество вещей. Сто человек составляют роту солдат; но рота – это не вещь, а число ста человек, каждый из которых – вещь. Теперь мы ясно представляем себе эту непрерывную вещь, но она теряет свое значение для бытия самих вещей, так как непрерывная вещь состоит из частей, но эти части никогда не существуют самостоятельно, а всегда снова являются непрерывными целыми. Всякое сущее, существующее само для себя, поэтому просто, и множество сущих никогда не становится одним сущим. Но это простое есть лишь абсолютная идея и в наших представлениях имеет не утвердительное, а лишь двойное отрицательное значение. Поэтому в науке и вообще в утвердительном суждении мы никогда не можем говорить о простых вещах, но в силу непрерывности всего видимого идея простого противоречит всем нашим положительным представлениям. Здесь, собственно, и кроется старая диалектическая загадка. Абелярд называет абсурдом то, что его учитель Расселин отрицает реальность понятия частей; но Расселин абсолютно прав. Если целое существует само по себе и состоит из трех частей, то это целое – не одна вещь, а три вещи. Если Божество состоит из трех лиц, то это tres res [три вещи – wp], и Божество – это не одно существо, а три существа. Эта антиномия является непосредственной причиной всех этих логических споров. Когда Парменид говорит, что существует только одна вещь; когда Антисфен и Стилпон говорят, что об одной вещи можно сказать только одно; когда Платон говорит, что если вещь есть это и что-то другое, то это верно лишь наполовину; когда Августин говорит: deus non subsistit [Бог не состоит из чего-то]: то же самое противоречие всегда существует на заднем плане. Как, например, одна и та же вещь может быть лошадью и коричневой? Совершенно ясным образом, согласно постоянному взгляду, но согласно идее того, что существует само по себе, этого нельзя помыслить; вся наша предикация противоречит абсолютному определению простого и имеет значение только для мира явлений, который мы, однако, не противопоставляем вместе с Парменидом Единому как многому, но только идее полного как неполного. Но в схоластической философии спор о реальности универсалий вначале не имеет такого общего логического смысла, а в более ранний период тайная причина реализма всегда кроется в учении о Троице, чтобы иметь возможность придать реальность атрибутам и отношениям, в качестве которых обозначаются лица в Божестве. Поскольку в то время читали очень мало, первый спор в школе, вероятно, был связан с более ранними словами Порфирия во введении к «Категориям» Аристотеля о реальности общего и комментарием к ним Боэция, но интерес спора заключался только в учении о Троице. Только после того, как физика и метафизика Аристотеля были привлечены к рассмотрению арабами, вопрос о реализме стал более общим и главным предметом спора стало учение Аристотеля о материи и форме. Отсюда философия проходит свой путь через реализм во многих повторениях до возобновления номинализма и его победы в более поздние времена. При этом, однако, всегда остается неразрешимым конфликт между наукой и верой. Согласно признанной концепции, он заключается в противопоставлении естественного и сверхъестественного знания, а по непризнанной глубочайшей причине – в том, что человеческая наука может постичь и познать только тот мир, который предстает перед человеком по общим законам, тогда как вера предполагает высшую причину всего сущего абсолютно и в противовес общей закономерности. До тех пор, пока это абсолютное представление об истинности веры не могло быть ясно и свободно отделено от научного знания по законам природы, а последнее было подчинено вере только как открытое знание, а не философски, невозможно было дать этому учению точное развитие.
Христианский дух уничтожил поэтический произвол мифов, а диалектика Аристотеля передала ясность и остроту понимания понятий. Таким образом, широкий, ясный, проницательный путь схоластики развился в ту засушливую формацию аристотелевской метафизики. Человеческому разуму было чрезвычайно трудно добиться значительного прогресса в этом искусстве. Возможно, некоторые из нас до сих пор считают, что мы так и не пришли к решению этого вопроса. Но тем, кто лучше знает историю философии, это известно. Мы действительно вышли за пределы схоластики благодаря развитию эмпирической науки, в которой мы научились понимать подчиненность видимого мира естественным законам и осознавать, что сотворение мира нельзя ни научно, ни метафизически объяснить всемогуществом или всеблагостью Бога, ни волей Бога, но что эти идеи веры, превыше всех научных знаний, лишь указывают на вечную истину.
С другой стороны, мечта о теологии и космологии, которая не должна развиваться эмпирически, то есть только метафизически, и в которой воображается, что наука о природе и атрибутах Бога, о сотворении и сохранении мира может быть развита только в мысли и посредством одной лишь мысли, всегда остается здесь на протяжении долгих веков.
Однако эта теология и космология не имеет других источников, кроме позитивно заданной церковной доктрины и философской метафизики Аристотеля и неоплатоников. Поэтому в течение долгого времени в истории философии нам не о чем говорить, кроме как о трансформации логической концепции в споре между реализмом и номинализмом. Сколько бы раз ни развивалась и ни переделывалась эта философская теория, у нее нет других помощников, кроме пустых основных понятий спекулятивной метафизики, которые вначале применяются только логически, а затем и физически.
Таким образом, вся схоластика представляет собой именно такое эпистемическое преобразование аристотелевского догматизма, содержание учения (в теологии и физике), о котором Аристотель вначале даже не знал, не могло быть включено в систему. Оставались только логика и спекулятивная метафизика. Таким образом, предполагалось обосновать метафизику на основе одной лишь логики и тем самым получить научное знание из одних лишь понятий. Логика дает только форму мысли, но не ее содержание, поэтому здесь
1) вся изобретательность используется только для того, чтобы определять, различать и таким образом учиться доказывать все более и более резко, с постоянно возобновляющейся надеждой достичь наконец независимости философии.
2) Но эта философема не могла дать себе никакого содержания истины, поэтому она неизбежно остается произведением рабства мысли; она могла утвердить себя только тем, что принимала церковное учение как положительную доктрину или повторяла его за другими, например, за Аристотелем. И в противовес этому на заднем плане всегда остается предпосылка о независимости концептуального знания.
Это также необходимый закон для хода истории схоластики. Опираясь на пустые логические систематические средства, человек начинает формировать доктрину: тогда здравый смысл обнаруживает, что универсалии не являются независимыми познаниями, но что мы пользуемся ими только с помощью языка и получаем их посредством абстракции. Но если это происходит, то независимость метода теряется. Поэтому здесь более яркая мысль приводит к номинализму, но школа и церковь принимают его, находя свое спасение только в реализме. Схоластика, по описанию Тидеманна, привыкла к реализму, к тому априорному отношению к предметам, когда после изложения в силлогистической форме большинства доводов за и против решение принимается на основании Аристотеля, отцов церкви и господствующей системы веры. Для того чтобы освободиться от этого принуждения и вновь обрести уверенность в собственном мышлении, разум должен сначала найти ясную область научного содержания, в которой он сможет вновь пробудить свое свободное мышление. Только естественные науки могли показать ему это. Но именно для них было так трудно получить ясные представления о законах природы и тем самым разрушить formae substantiales.
Для спора о мистицизме и схоластике, о номинализме и реализме следует сначала рассмотреть Ансельма Кентерберийского, Гильдеберта Лавардинского, Росцеллина, Вильгельма из Шампо, Абеляра и Бернара из Клерво.
Ансельм Кентерберийский родился в 1034 году в Аосте в Пьемонте, позже был настоятелем и аббатом монастыря Бек, а затем, как преемник своего учителя Ланфранка, архиепископом Кентерберийским, в качестве которого он умер в 1109 году. Хильдеберт Лавардинский, архиепископ Турский, родился около 1055 года, умер около 1134 года, был человеком с прекрасным интеллектуальным образованием, изысканно ясными мыслями, прозаическими и поэтическими, под руководством лучших латинских писателей. Он написал «Философию морали честной и полезной» (moralis philosophia de honesto et utili), в которой он с ярким духом следует за «Деяниями» Цицерона. Он также написал tractatus theologicus, первую попытку создания системы теологии, в манере, которая впоследствии так часто повторялась схоластами. Он излагает догмы, сопровождая их несколькими отрывками из Библии и Отцов Церкви, затем выдвигает возражения и обосновывает их с помощью авторитетов, особенно Августина. Иоанн Росцеллин или Русселин был каноником Компьеня около 1089 года, был вынужден отречься от своих еретических взглядов на Троицу в Соассоне в 1092 году, но тут же отказался от них и удалился в Англию, где, тем не менее, подвергся преследованиям из-за этой полемики. Вильгельм из Шампо был известным преподавателем диалектики в высшей школе Парижа и умер в 1120 году как епископ города Шалона. Его ученик Петр Абалард (родился в Пале близ Нанта в 1079 году) выступил против него в Париже, заставил его замолчать и изменил его взгляды благодаря превосходному искусству диалектики. Абалард был живым и очень популярным преподавателем, способствовал расцвету университета в Париже, в том числе пробуждению желания философствовать, и собрал вокруг себя большое количество студентов. Он был достаточно либерален, чтобы признать заслуги греческих философов, которых он знал по Цицерону и Августину, и даже утверждать, что христианская доктрина более близка к ним, чем к доктрине Моисея, как из-за их морали, так и из-за учения о единстве Бога, и из-за учения о единстве Бога и Троицы, которое последние признавали на основании разума, и сам продвигал это учение, продолжая манеру Гильдеберта и Ансельма в своей Christiana theologia and ethica и придавая учению большую определенность и совершенство. Он умер в Клюни в 1142 году. Своим либерализмом и аристотелевской диалектикой он взбудоражил строгую церковную и мистическую партию, возглавляемую святым Бернардом, так что эти споры преследовали его почти всю жизнь. Однако в конце концов он примирился со святым Бернардом.



