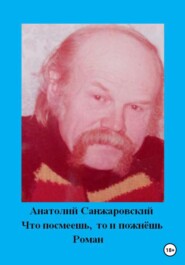 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
«Зачастую в светлое будущее нас звали за собой люди с тёмным прошлым».
Коммунизм – это фашизм бедных.
Генрих Бёлль1
После того как поймешь простые истины, хорошо бы понять еще более простые.
С. Тошев– Здравствуйте, папа…
– Здравствуй, сыне… Навконец… Навконец-то… И кто? Меньшак! Каюсь, тебя-то как раз я меньше всего и ждал.
– Почему?
– А вспомни, мой горький младшик, как мы прощались… Да где тебе вспомнить… На всё про всё было тебе три лета. Уходил я на фронт утром. Была смертная рань. Я поднял тебя с койки, хотел поцеловать. Так ты распустил тюни… Стал вырываться… Раза три сыпнул мне голыми пяточками по лицу. Вырвался-таки и в одной рубашонке, унырнул под наш барак на низких столбках… Стоишь на коленях-руках, ревмя ревёшь. Так мы и не простились.
– Какие с глупского детства спросы?
– И то верно… Что ж такие у вас долгие сборы? В полвека не втолкёшь… Лежи жди. Это неправда, что мёртвые не видят, не слышат. Железная ветка и станция рядом. Внизу. Я вас всех сверху, отсюда, с горки, видел. Не по разу мимо проскакивали. Митрофан то в техникум, то на каникулы. На год по два конца туда-сюда, туда-сюда… Позапрошлой осенью в Адлере в санатории жировал. На Рицу ездил. Перед ним автобус с людьми сорвался в пропасть… Всё ахал на абхазские горы. Палец-гора – шестьдесят метров ростом – особенно легла к душе… А ко мне и носа не высунь… И Глеб в армию… Из армии… Даже Поленька наша раз промигнула вместе с тобой…
– То возвращались мы из Грузии на Родину.
– Наконец-то вырвались из каторжного чайного ада! Даже отсюда, из могилы, я видел по утрам, как бригадир Капитон бегал по посёлушку и стучал палкой в каждое окно, будил в работу: «Аба!.. Вставай!.. Сэгодня воскресень, работаэм да абед! Аба! Вставай скорэй». А было всего-то если не пять, так только четыре часа утра. В такую рань по воскресеньям гнали на сбор того проклятухи чая… Наконец выпрыгнули из этой чайной могильной ямы… Ну… В сторону этот чай!.. Ты… А ты? Ты без конца веялся мимо. Командировки… В Батум. В Тифлис. В Ереванко. А заодно, раз тут при близости, и в Насакиралики наведывался. Оно, конечно, кому не в охотку глянуть на места, где возростал… Скучаешь. Но почему по батьке никто не заскучал? Иле не знали, что я здесь? Разве вам власть не писала – похоронетый в Сочах?
– Писать-то писала. Да искать-то где? Развалились те Сочи на сто двадцать километрищев вдольки моря. Сыщи ветра в горах! Да я сам сперва сколько раз писал тем властям? Просил сообщить, где именно Вы похоронены. Нам не отвечали. Мы и реши, никто Вас не хоронил. Вынесли за госпиталев забор и весь расчёт. По газетам, у нас везде проклятуха глянец. А в новгородских, в псковских, в ленинградских лесах до сей поры спотыкаются о солдатские косточки. Где пуля остановила, там и схоронила. В эту зиму снова написал. То ли гласность затюкала – ответили сквозь зубы. Похоронен в братской могиле на Завокзальном кладбище в центре Сочи. От железнодорожного вокзала можно доехать на такси, расстояние полтора километра. Откуда они взяли эти полтора? С платформы сразу на мост над путями, взбежал на горку по каменной лестнице и у Вас.
– Спасибо, сынка, что наведался. Я боялся, что никто так и не покажется. Невжель хорош и был, покудушки в рот подавал? Подымай, подымай и на. Никтошеньки! К другим худко-реденько наезжают… А ко мне… От соседей совестно… Ну да ладно. Рассказывай, как вы там. Среднюю школу все покончали?
– Да вроде. В одно лето я кончил школу, а Митрофан молочный техникум на Кубани. От Вас совсем рядом. Кончил он красненько. Как отличнику – выбирай сам себе место работы. Он и выбери город Серов. А после раскинул спокойненько умком, за головушку за бедную и схватись. Господи! Да на кой кляп нам тот Урал? Чего менять одну чужбину на другую? Разве мало навидались мы лиха в Грузинии, в «стране лимоний и беззаконий»? Хорошая земля Урал, а лучше драпану к себе на Родину! И дикой полночью, в одних трусах жиганул по общежитию меняться. Серов! Город! Большой город! На любую воронежскую деревнюху! И выменял у одного дружка Тришкина.[348]
– Умно! Умно!
– Мы сразу с Митрофаном уехали в Каменку. Это посёлочек под Лисками. Потом из армии вернулся к нам Глеб. Я поехал в Насакирали, еле уговорил маму бросить тот каторжный, рабский чай и увёз в Каменку. Года пенсионные ей ещё не поспели, а мы всё равно не пустили её больше ни в какую работу. Три лба одну мать не прокормим?!.. Митрофан был механиком на маслозаводе, а мы с Глебом разнорабочими. Я кочегарил и писал в газеты. Через год меня направили работать в редакцию. Вжался заочно учиться в университете на журналиста. В Ростове-на-Дону. Недалеко тут от Вас… Менялись редакции. Менялись города… И кружило, кружило по провинциальным стёжкам, пока не прибило к московскому бережку. В Москве и прикопался.
– А наши всё так и живут в Каменке?
– Нет. Года четыре там помучились, и Митю перевели в Верхнюю Гнилушу. Это на севере нашей же области. С ним переехали и мама с Глебом. Митрофан добежал-таки до директорского кресла на маслозаводе. Потом власть подпихнула его в председатели колхоза. Глеба уже пенсионер. Компрессорщиков в пятьдесят пять выпроваживают.
– Господи-и!.. Уже сыновья стареют… Не вдвое ли старше против меня… Дети у всех?
– Только у Митрофана. Три девки. Сдал России под расписку… Уже распшикал под загсовскую расписку. Недоверчивый… У меня… пока никого… Как ни старались…
– Значит, плохо старались. Плохой из тебя стахановец…
– Ну… Дело не в стахановце… Наверно, есть на небушке силы, руководят нами… Вот сверху голос нам был: какую жизнь вы при Советах прожили – такой жизни ни одной собаке нельзя пожелать. А вы в эту жизнь тянете своих детей! Подождите. Проводим вот Советы к хренам, тогда и зовите деток в новую жизнь.
– А годы что говорят? Дозовётесь? Зовутки не помрут?
– Зовутки у нас вечные! А вот деньки Советов катятся к похоронам. Отходит их жизнь… Мы столько настрадались в бездольной советской житухе, что все её ужасы напугали и наших ещё не зачатых детей. И боятся они идти в нашу жизнь… Ничего ж нет в мире страшней нашей рабской жизни при Советах! Хотя… До жизни римского раба нам никогда не допрыгнуть. «Римский раб гарантированно получал от рабовладельца литр вина и краюху хлеба в день. В случае невыполнения этих обязательств хозяин должен был бы его либо убить, либо отпустить». Зато в кремлёвской столовой в меню 144 блюда. О жили слуги народа! Зато сам господин народ не всегда имел к обеду сытый кусок хлеба.
– А кто спорит? Расхор-рошую жизню состроили Советы! Гибель ско-олько народу шиковало по сталинским дачам![349] Сколько полегло в незаконных репрессиях! Так смелее додавливайте те проклятые Советы!
– Они сами себя уже раздавили своей ненавистью к простому Человеку. Накрылись тазиком… Тут дело решённое. Россия вбежала в новую жизнь. И уже в новую Россию придут наши дети! Первый счастливка уже поселился под сердцем у Валентинки… Она вот со мной рядом… Моя жена…
– Спасибко, дочушка, что наведалась… Не смущайся, не красней у доброго дела…
– Мы с Валентинкой, пап, не промахнёмся… А вот Глебушку жалко. Отец наш Глебий ведь вовсе не женился!
– Это ещё почему?
– От житухи роскошной… С мамой они тридцать лет протолклись напару в одной засыпушной бомжовой комнатёхе. На двенадцати гнилых квадратах! Дом-то – сарай аварийный! Свои года отслужил чёрте когда.
– Да где это видано, чтоб взрослый сын и мать жили в одной комнате? Иле они звери? Где это видано?
– А-а, па… У нас ещё не то видано… Не мог Глеба жениться, хоть девчонок хороших у него ско-олько было… Одна Катя чего стоила… А… Приезжала к нему из Насакиралей Марусинка, любовь из юности… Покрутились, покрутились… Не отважилась она жить с ним в одной комнате с матерью… И разве за это её осудишь? Да и он… Ну, говорил он мне, как я приведу жену? Как я лягу? Рядом же койка матери! Не чурки же мы с пластмассовыми глазками… Не скоты… Так и не женился. Рассудил… Дадут просторней конурёнку, абы не спать в одной комнате с матерью, женюсь. Ещё успею. Это дело не ускачет от меня на палочке. То даже не подавал заявление на жильё у себя на маслозаводе. А я подкрути гайчонки – отнёс. И вот сидит ждёт ордерок. Тихо, без шума. Смирно прождал пятнадцать лет. Что-то не несут ордерок… Я каждое лето бываю у них в отпуск. Был и в прошлом году. Раздраконил Глеба, еле заставил пойти узнать, в чём дело. Оказывается, ни в какую очередь его не впихнули. Заявление честно-благородно утеряли. Что и следовало ожидать. Отпуск кончался мой через два дня. Я обежал все нужные конторы. Соскрёб нужные бумаги. Осталось райначальству снести. Оно обманом ушло от встречи. А я и не набивался особо. Послал в Кремль, президиуму съезда депутатов. Кремль столкнул бумажонки этажом ниже. В область. Область – в район. Сунули наших в очередь. Сто двадцать шестая! Общая многознамённая.
– Ка-ак общая? Они безо всякой должны очереди! У них же целый бугор льгот! Взрослый сын и мать мучаются в одной комнате тридцать лет – раз! Дом-сарай аварийный – два! Семья погибшего – три!..
– В том-то и гнусь, папа, что гнилушанская райсоввласть не считает Вас погибшим. Так и сказали. В справке написано: умер в госпитале от ран. Фи! Умереть от ран где хочешь можно. А ты добудь нам справушку, где чёрным по белому будет начирикано: Ваш такой-то погиб в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество. Надо чтоб обязательно погиб в бою. Только это тянет на льготу. А умер от ран – это недоразумение.
– Ах, сволота! Ах, сволота-а!.. Да что ж я, от обжорки иль от ресторанных ран спёкся? Не знаешь, так пошерсти законы. Найдёшь. Только за что и дают той гнилушанской властюре-петлюре хлеб с маслом? Жрёшь хлеб, так хоть законы чти! За это тебя кормят. Тыкни их пасекой в двести девятое совминовское постановление от 23 февраля 1981 года. По-русски ж там отрублено: имеют льготы семьи не только тех, кто умер от ранений, но и тех, кто даже лишь заболел на фронте… Ах, сволота-а… Додави, сынок, это верхнегнилушанское райдерьмо, добудь мамке сносный божий угол. Не могу я покойно лежать, всего трясёт её беда. Ей ли в восемьдесят два года гнить с сыном в падающем сарае? Дождь дуется ещё за Гусёвкой, а они в своей недоскрёбке распихивай всюду тазы да вёдра. Где ж тут быть покою? Ты Митрофания подожги в союзнички на добрейское дело. Председателёк. Какая-никакая властёшка.
– О! За своё тёплое местынько он костьми падёт. Этому трусу всякий заяц в райкресле тигром мерещится. Я за Гнилушу, он и ну Глеба тиранить: «Чего этот писарь кадил по начальству? Меня теперь тут слопают и пуговички забудут выплюнуть. Зачем ты ему разрешил?» – «Да сколько ж нам терпеть эти квартирные страхи?» – «О! Тридцать лет это жильё тебя устраивало, а теперь не устраивает?» – «А тебя сколько такое жильё устраивало? Забыл, как вырывал себе хоромы?» После женитьбы Митрофан, молодой специалист, попрыгал-попрыгал года три по развалюшкам и засобирался вкатиться в новый дом. Ни окон, ни дверей ещё не было, а он перетащил туда все свои тряпочки-тапочки. На ночь клал топор в головы. Оказывается, на его трёхкомнатную резиденцию твёрдо положил восхищённый глаз новенький райпрокурор Блинов. Он позже Митрофана приехал в Гнилушу. Прокурор тоже досрочно собирался влететь на вороных. Но лопухнулся. Митечка выпередил. Так коммунист у коммуниста чуть глазик не вырубил. Что там ваши во́роны! Топорок произвёл на прокурорика неизгладимое, неумирающее впечатление.
– Как коммунист – так нет человека! Кто у нас ещё в роду коммунист?
– Митечка в гордом одиночестве.
– И слава Богу, что лишь один. Коммуняка за своё поганенькое креслице от всей родни открестится… Ну, как он, наш партейный подпёрдыш, сейчас крутится, когда прижали хвосток коммунякам?
– О! Этот лук-бруевич[350] как истинный хитрожопый коммунист вывернется везде. Перевёртыш ещё тот! Он всегда там, где выгодней. Была партия на коне – он был в ней. Накрылась тряпочкой – он к партии уже крутнулся задом. Из дрын-бруевичей, похоже, наш преподобный Митрофаний, наш Митечка драпанёт в митричи[351]. Говорит, займусь бизнесом по-русски.
– Это что ещё за такой бизнес по-русски?
– Ну-у… По части бизнеса он у нас дока. То занимался бизнесом по-советски. Сляпал у себя в колхозе комплекс на полторы тыщи коров. Чёртова советская гигантомания… Конечно, по команде с партверхов. И поставил такое стадище на решётчатый пол. И стадо погибло. Конечно, оно не пало…А ну корова постой на решётке месяц, другой… Коровы обезножели и их пришлось пускать под нож… Крепенько умылся наш бум-бруевичок с комплексом своим… Это был бизнес по-советски. Теперь этот наш бывший прыщ-бруевич мостится кинуться с головкой в бизнес по-русски.
– Да что это за счастье?
– А-а… Бизнес по-русски: украли ящик водки, продали, а деньги пропили.
– И он всерьёзку хочет таким бизнесом заняться?
– Говорил, вот отремонтирую бивни[352] и перекувыркнусь на русский бизнес.
– Блин горелый! Он так и жизнь кончит где-нибудь в доме отдыха…[353] Лучше б ты мне про него не говорил, я б и думал про него хорошо…
– Разве Вам не о ком думать хорошо? Мама…
– Верно… Подумай только… Поверх восьми десятков пришпилено ещё два года… По живым годам она мне бабушка… А под венец бегала со мной в семнадцать…
– Папа, я всё не насмеливался спросить… Подольский архив нам всё отвечал, что Вы умерли в госпитале от ран. А тут на мой запрос вдруг пишут этой зимой: «По документам учёта безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской Армии установлено: стрелок… рядовой такой-то, находясь на фронте Великой Отечественной войны, умер от истощения 16.3.43 г. в АГЛР[354] – 32134». То от ран, а то уже от истощения. Что это значит?
– То и значит, что значит.
– Выходит, Вас в госпитале не кормили?
– Раз хата сгорела, чего воду разливать?
– Что-то Вы загадками заговорили…
– Какие уж тут загадки? Немка[355] у Туапсе. Снабжения из России никакущего. А Грузиния не слала… Сама любила кушать сладко. Кормёжка у нас аховецкая. На одной шрапнели лежали. И лекарствушек никаких. Одного йода залейся. Эвкалипт, травы кой да какие были… Один и тот же бинт по четыре раза гнали в дело. Простирнули, подсушили и снова пошли тебя мотать. Ни лечения, ни питания. Только успевали ещё тёплышков отвозить…
– Непостижимо… Но лагерь лёгкого же ранения! Как же можно умереть?
– Ни лекарствий, ни лечения, ни питания… И лёгкое перегорало в тяжёлое… Кому мы нужны? На лечёной кобыле далече ли упляшешь?
– Теперь я понимаю, почему кругом все глухи, ничего не знают, никуда не пускают. Правду стерегут. Хотел я зайти в санаторий имени Фрунзе. Там был Ваш госпиталь. Хотел посмотреть, что Вас окружало, что Вы видели в последний раз. Вахтёр, сытый спесивый язовский[356] бульдог, дальше проходной не пустил. «Нечего тут шлындаться всяким!» – «Здесь в войну лежал мой раненый отец. Здесь он и умер…» – «Ну и что, что когда-то здесь лежал твой отец? А сейчас не лежит. Сейчас здесь санатория министерствия обороны. Всё деревянное заменили на камянное. На что глядеть?» Круглая проходная, похожая не то на КПП, не то на дот, и по ней, как фельдфебель с ружьём, важно расхаживал этот облезлый язь и нёс ахинею, не глядя на меня, не видя меня. Я спросил, как фамилия главврача. Он: иди на Курортный проспект, из автомата по 09 спрашивай. Ну не бегемот с автоматом? Главврач Хетагуров дал по телефону ложный адрес медсестры Демиденко, в войну здесь работала. Мы с женой как последние умотанные савраски по дикой жаре излетали по рвам-кручам всю проклятую Бытху, но третьего дома не нашли. Нет такого в природе! Стали спрашивать всех встречных-поперечных. Язык вывел. Гнездилась наша сестричка в доме, где поликлиника на первом этаже. На грязно-белой стене гвоздём нацарапано латиникой: KLINIKA VATSONA. На долгий звонок еле узко открыла, гремя цепями и не снимая совсем их, испуганная злая старушоня с жидкими недодранными кудельками. Прилегла грудкой на цéпи: «Чего надо?» – «Ульяна Григорьевна! Миленькая!.. Мы из Москвы, проездом… У нас всего два часа… В войну у Вас во фрунзенском госпитале лечился мой отец… Как всё было? Как лечили?.. Два слова…» – «Ничего не знаю!» – и закрылась на цепи. Из-за двери: «Начальником Вашего госпиталя был врач Шапошников, заместителем по политчасти Борисов». – «Порасспросить бы… Но как их найти?» – «Ничего не знаю». В сочинском военкомате, что в трёх саклях от санатория, один припев: не знаем! не знаем!! не знаем!!! Поезд ушёл, люди ушли. Брешут! Всё они знают. Да нам не откроются. Сколько хренова гласность отмерила, то и знай. Но за край не заскакивай.
– Э-э-э… Властёшкам мы вроде шила поперёк горла. Вот нас накидали сюда, как дрова, посверх двух тыщ душ. А все ль ранбольные отошли божьей волей? Голодом да нелеченьем сколь дожали? Возюкаться ещё с нами… Дешевше в земельку швырнуть… Было тут обыкновенное кладбище. В войну братскую вырыли… Госпитальный склад готовой продукции! Потом гражданских убрали. А кто своих не вывез, того наказали: оставленные гражданские могилы бульдозером поровняли да отгрохали мемориалище. Нам он, извини, как до бритой лохматки дверцы.
– Почему?
– Откупаются от нас, от мёртвых. Сначала удавят. А потом памятники гандобят! Да не один. Целых два! В сорок восьмом во-он, под платанами, поставили. Скромный, тихий. Сходите посмотрите…
Старинный воинский шлем скорбел чёрными глазницами на верху белого обелиска. По постаменту ранеными, рваными ручейками лились фамилии. Памятник низко, повинно обегал широкий каменный парапет.
На нём сидели с ногами две зелёные полуголые шалашовки и курили.
За спинами у них маленькая девочка что-то сметала ладошкой с парапета, объясняла неведомо кому:
– Это не я намусорила. Это тётеньки намусорили…
– Курячки! Вон отсюда! – зыкнул я на гулёх.
Девицы лениво ушли.
Мы с Валентиной молча постояли у сиротливого памятничка, усталого, замытого дождями. Отыскали свою фамилию и невесть сколько простояли ещё…
– По нашей богатой бедности разве б не хватило, сынку, одного памятника? Так нет, давай ещё. Эти звёзды в полдома, эти столбы до небес, эти лестницы с бесконечными фонарями по бокам, эти великанские мраморные стены полукругом с фамилиями. Каждая буква с кулак… Каждая фамилия по метру… Этот вечный огонь… Нас он согреет? Нам от него тепло? У нас же не у каждого ли ещё дома полуголодные вдовы без дров мёрзнут зимами. Лучше б им отдали этот газ, мы б только легче вздохнули… А то глаза позамазали нам показушной памятью. Почитают! Да не нас – себя они почитают!.. За что мы полегли? За кого мы полегли? Будь у нас правдонька, я б, может, тут бы и не курортничал. А так… Чужая судьба обняла да раздавила меня, сынку… Я прибаливал дома. Четверо детей мал мала мельче. Фронт мне не светил. А выдернули из мира под горячий глаз в счёт какого-то местного нацмена-прихвостыша. Это мне служивый прошепнул в Махарадзе, в военкомате. Надо было заерепениться. А я застеснялся. Прижух. Да ну ещё в дезертиры впишут… Русская простота… Не простота, а дряннота. Рябой кремлюк разве не берёг своих? Разве спешил выпихивать их под пули? Кругом война, кругома беда, а здоровые мандариновые носороги не драли пьяного песняка по садам? Глянуть бы на того муфлона, что откупился мной. Досе наточняка жрёт винище где-нить у себя в саду в бузине и варалокает.[357] А я в тридцать три сопрей… Из-за гор немчура ломил к Грузинии. Кто отбивался? Смотри фамильности на обелиске… Самарский, Самодымов, Сапожников, Рубаха, Недайбеда… Русский дурёка напару с хохлом. Хоть фронт и кавказский был, а кавказюков-варалоковцев на этом самом фронте мы не больше ли видели на плакатах? По норкам отсиживались соловьи? Ты б, сыняра, до точности проведал-узнал, в счёт какого ж геройца меня сунули под пули?.. Эх… Ты много нашёл тут на мраморе ихнейских чалдонских имён? Пальцев на одной руке в избытке лишних. Вот так-то! И мы ж плохие. За что ж мы полегли? За кого ж мы полегли?.. Ты мне пояснишь, чем Ленин отличается от Сталина? Чем Хрущёв[358] отличается от Сталина? А «генеральный бровеносец в потёмках» Брежнев[359] от Хрущёва? А Черненко[360] от Брежнева, про которого живые поют, аж нам слыхать: «Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые!»?
– Бабки-ёжки! Нашли где искать разницу… Да все они одним Самозванцем мазаны! Короткую хрущёвскую оттепель сам Хрущ и придушил. Окончательно додавил её холодный, пьяный застой при Летописце. «Хороша моя подруга и в постели горяча – в этом личная заслуга Леонида Ильича».
А сам Ильич очень не любил Урал. «Причина нелюбви Брежнева к Уралу выяснилась позже. Один из местных жителей в 1930 году написал на Леонида Ильича донос на имя председателя райисполкома. Якобы землемер Брежнев отрезал соседнему колхозу лишний участок земли. Опасаясь ареста, Брежнев, уже занимавший в областном управлении сельского хозяйства высокий пост, даже не снялся с партийного учета, а быстренько перебрался из Свердловска в Днепропетровск».
А рекомендовал Брежнева кандидатом в члены КПСС Иван Непутин из посёлка Бисерть под Свердловском. И получился непутёвый вождюк.
Застой застоем, но у него скопилось к его могильному отвалу сорок две легковые импортные машины, до двухсот наград. Вот такой был Леонид Летописец. «Леонардо, «Ренессанс»» – так в Италии перевели название его брошюрки «Возрождение»… При Летописце усердно затачивал карандашики один референт. И до того насобачился анафемски ловко затачивать эти самые карандашики, что выскочил на них на самый верх – дослужился до «тубаретки» генсека. Что один, что другой – без смеха и слёз не взглянешь. Цековские плеснюки еле ноги таскали, еле языками ворочали, уже слова по бумажке не могли толком прочитать, но – правили одной шестой планеты! Один застой имени Бровеносца – Брежнев запивал таблетки зубровкой – крепче берёт! – сменился другим застоем имени Карандашика. И какой работы ждать от «застойщиков»? Зато анекдотов про них накиданы кучи. Объявление по метропоезду: «Станция Черненковская. Переход на Брежневскую линию». Едва благополучно уронили гроб с Чернобровым в могилу у кремлёвской стены… Нет, это было позже… После андроповского перебега в мир иной[361] по народным каналам полетела новостёнка: «Сегодня в 9.00 после тяжёлой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Председатель Совета Обороны Константин Устинович Черненко». Большой друг Бровей, этот генеральный карандашевед так стёрся в усердных заточках карандашей для генерального любвеобильного Неолита Ильича Летописца, кидавшего карандаши, даже не выходя из своих весёлых цэковских апартаментов, – друг Бровей настолько уработался, что, когда допластунился-таки до генпоста, то у него уже не было здоровья, и этот несчайка ездил в присутствие на катафалке. Приезжал хоть полежать у руля. В кресле генсека он ядрёно задыхался. Кислородный аппарат трудно выкраивал ему последние минуты. В больнице у Черненки дежурил военный. Всё следил, чтобы вождь, вызывая обслугу, не нажал на ядерную кнопку. Выступал Черненко сразу перед толпой микрофонов. За один держался, по другому подавали ему кислород, а по третьему ему шептали, что надо говорить. Вы будете смеяться, но он тоже умер! Бегали слухи, что в Колонном зале Дома Союзов его гроб был покрыт переходящим Красным Знаменем. Ну, кто следующий? Черненко успел-таки занять последнюю могилу у Кремля. Больше у Кремля не хоронили. Черненко был замыкающим в эпоху трёх пэ: пятилетка пышных похорон. В эту легендарную пятилетку с 1980 по 1985 ушло три генсека – Брежнев, Андропов, Черненко – и ещё четыре члена политбюро.
– А чем, скажем, Горбачёв[362] отличается от Гидаспова?[363]
– Ленинградцы в своём Гидаспове души не чают. Называют его нежно «наш маленький Гестапов». И ещё они присвоили Гидаспову почётное звание «Народный артист КПСС». Правды от него не добьёшься!
– А какой ты хочешь правды от цэковских генералюков?.. Рыжков чем отличается от Лигачёва?[364] А Лигачёв от Полозкова?..[365] Эти кумедные Кузьмичи… Я что-то не вижу между всеми ними особущей разницы.
– У Вас тут, папа, на Кубани кре-епенько, наотмашку секретарил казачок Медунов. Не ему ли ка-ак светили огоньки сталинской дачи?! А его – в Москву!!! На пенсию. С поклонами поднесли столичную квартирищу. Орден за комзлодейства? И Полозков, кому он кинул кубанскую власть, вытворял ой-хо-хо! Сколько виноградников угрохал! С пьянством боролся! Химией всю Кубань угадил. Чёрное море возвёл в выгребную яму. Душил кооператоров… По убогому умку быть бы ему не выше завхоза в худом колхозе. А его столица кликнула под своё крылышко. Бегают слухи, кубанская мафия ищет художника, чтоб сочинил картинищу «Лигачёв и Полозков в Кремле». От злого бессилия запел народ:
– На Кубань уеду яВ полозковские края.Я туда, а он в столицуДелать из страны станицу.И сделает, раз партия прикажет!



