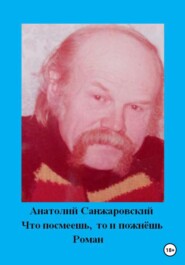 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
– У мамы пенсия восемьдесят без двадцати пяти копеек.
– Горе, горе… Четыре тыщи и восемь десяток… Вот тебе живэ ки́шка и живэ собака, как говорила Поленька. Я когда-то мечтал, чтоб у неё была шляпа с пером. А тут хлеб хоть каждый день на столе? Ну рази тёмный народко когда-нить поймёт своих комгоспод? Да и комгоспода взаимно не разбегаются понимать свой народ. Комгоспода всю жизню живут уже в коммунизме с незапамятных лично для них времён… Для них главное не оторваться от коммунистических кормушек. Оттого и прикипели, приварились вмертвяк. Одна смерть и отпихнёт. Нужен им народ, как диабетику талон на сахар. У ниха даже промежду собой тайный насмешливый лозунг какой? «Планы партии минус планы народа!» Только и света осталось в нашем оконышке что Ельцин[371]…
– О! Всех царьков в Кремль спускали на номенклатурных парашютах. А Ельцин народным духом вознёсся!
– Как ни топтал его сам Меченый, как ни топтали его горбатые робята – вознёсся. Первый государственный муж России! Выбрал сам господин Народ! Одним Ельциным и дышит страна. Не вырви он её из капээсэсовского болотища, всем бы нам хана. Гадалец Нострадамус ещё за четыреста лет сказал, что наша революционная властёха процарствует семьдесят три года и семь месяцев. Осталось рабской нашей каторги какие-то пустые месяцы.
– А дальше что?.. Хужей, сыне, не будет. Хужей не бывает. Хучь… Кабы ты знал, как горько моим косточкам лежать на чужине… Скажешь, Сочи тоже Россия… Россия-то Россия, да не моя. Моя Россиюшка – Новая Криуша… Столица моей души… Украли у русских Россию… Покрали у нас наши жизни в проклятом в семнадцатом…
– Папа, а зачем Вы уехали из Криуши?
– А разве Вам мамка не рассказывала?
– Да всё про вечные вербовки…
– Так и я ж ничего другого не скажу… Молодые… Кортелось мир повидать… Вольных деньжаток ущипнуть… Мы и увербуйся за Полярик леса качать… Скачали там сколь годков – финн забузил. Мы и перевербуйся в Грузинию… Поближе к солнцу… У нас же было вас трое, один мень другого…
– Извините, папа. Но зачем Вы неправду говорите?
– У нас с Полею одна для вас, детки вы наши, правда. Другой правды мы не завели. Другой правды нету…
– Есть.
– Тогда ты расскажи нам с Полюшкой правду про нас. Я ничего вам не расскажу поверх того, что мамка рассказала уже вам или ещё когда чего доприрасскажет…
– Мама уже ничего не расскажет…
– Почему?
– И мама… и… Глеб… уже… умерли…
– А чего ж ты сразу не сказал?
– Не знаю… Не знаю, какими словами это сложить… Не хотелось вот так сразу тревожить Вас… Уже после смерти мамы я поехал в Ваши места. В районе, в Калаче, случайно наткнулся на архив и зашёл. Дай, думаю, узнаю, что же про нас, про Долговых, история лалакает. И я узнал, что нас кулачили.
– Да, сынок… Были мы в раскулачке… Вот ты сам и узнал главную правду. А мы с мамкой вам никогда бы её не открыли. Я и мёртвый не проговорился бы…
– А почему так?
– Возради вас же… Возради вашего ж спокоя… Куда на учёбу, куда на работу – пиши бумажку про себя. Пиши: сын раскулаченных. Прочитают такое и какая учёба-работа вам засветится? Никакого ж ходу! Не лиходавцы мы какие вам… И там, за Поляриком, нарешили мы с Поленькой никогда не говорить вам про раскулачество. Не будете знать – легче отживёте… Вот чего мы, семья ссыльных переселенцев, и молчали про раскулачку, про свои принудиловские ссылки-пересылки. С купоросной Софьюшкой честно нельзя… А если что, пускай она за всё спрашует с родительцев. Сын за отца не отвечайка… Когда это перегонять нас с севера в грузинскую малярийную сырь подымать чайные плантации, с нас, с чернорабочих, взяли расписки, что никогда не проявимся в Криуше и нигде не вякнем про свою высылку… Иначе нам несдобровать…
– Теперь я понял… Тётка, мамина сестра, рассказывала, что мама частенько приезжала к ней в Калач проведать. Всякий раз наскакивала и в Собацкий. Но в Криуше ни разу не показалась. Страх не пускал.
– Страх за вас, сыны, не даёт покоя и мне. А я уже сорок восемь лет гнию в земле. Всё дрожу за вас… Переживаю… Софьюшка Власьевна разок погрозит пальчиком – до скончания света в страх всадит… Как меня… Даже вот мёртвый боюсь её… Во такущая она наша сахарная советская жизня…
– Как же, папа, это жутко – всю жизнь прожить в страхе… Мне было три, когда Вы ушли на фронт, и Вас я не помню. Но мама… Вина и страх вечно жили на её лице. Во всякую минуту на протяжении шестидесяти лет она боялась ни за что ни про что быть снова наказанной! Её страх переливался невольно и в нас, и мы, её сыны, были парализованы её вечным страхом. Мы не знали природы этого страха, но он вмёртвую правил нами уже с детских мягких лет. От того вечного материнского страха мы ступали по жизни крайне осторожно, бочком, всегда покорно забегали в задние ряды, в тень, в угол… Жизнь в вечном углу… Это ли не страшно?.. Вот только сейчас я начинаю брать в толк, почему и мы, дети, безотчётно, безо всякой ясной вины, тоже чувствовали всегда себя виноватыми и вечно в боязни жались на обочинку жизни… Как страшно аукнулась ваша раскулачка…. Вот только сейчас я всё это осознал и понял… Вот только сейчас у меня сошлись в голове несводимые концы… Я только вот теперь понимаю многое странное в поведении мамы… Бывало, расскажет какой-нибудь занятный случай из жизни. Мне, пленнику пера, хочется записать её историю. Кинусь записывать тут же. А она уже как-то обречённо смотрела на мою торопливую писанину и часто спрашивала робко: «Ты что это пишешь за мной? Не хочешь ли ты сдать меня туда?!» – и тоскливо подымала палец кверху. – «Да Вы что, ма?» – со смехом отвечал я, совершенно не понимая её абсурдного вопроса. И только вот теперь мне открылись эти странности в её поведении… Мы, сыновья, что-то вроде подозревали… Не раз спрашивали обиняками и в лоб, не кулачили ли нас. Но мама и разу не созналась.
– Ещё б сознаться… К чему болтанкой кидать вам и себе на шею петлю?
– Знаете, папа… Вот я сейчас вспоминаю… Мама не одна такая была… Ведь что первое приходит на память… Люди, с кем сводила меня жизнь… Многие из них тоже были незаконно репрессированы. У одних счёт репрессированных шёл на десятки миллионов, у других на сотни тысяч. И те и те неправы. Официальных же данных нет. Доподлинно неизвестно, сколько из них были расстреляны, сколько отделались высылками на сперцпоселения с обязательной принудительной работой на самых тяжёлых участках. Однако по мелочи что-то да известно, папа. Так, по справке Вашего сельсовета Новой Криуши в одном Вашем селе в двадцать девятом проживало более 10 тысяч! Но к 1941 году уцелело лишь восемь тысяч. Репрессивная коллективизация сожрала около четверти населения. Это говорит о грандиозном размахе жестокости. В целом же по стране, повторяю, официальных данных нет. Власть тут всё держит в секрете и помалкивает. Значит, есть что скрывать? Но, думаю, со временем может, откроется? Вон… После войны нам официально пели, что во Второй мировой у нас полегло всего-то четыре миллиона. А прошло время, и уже тоже официально называют двадцать семь миллионов! Так что… Сколько лет Советам… Разве не столько лет и незаконным репрессиям? Скорбный список будет расти. Ведь учёт жертв держался в секрете. Всё открывается после. Постепенно. Один тридцать седьмой год сколько беды наворочал?.. Потом… Наказывали не только отдельных людей, а целые народы! На Кавказе… Во время войны кой-которые перебегали на сторону немцев. Ну и наказывай конкретных предателей. Ну зачем наказывать целые народы? Выселяли… Двадцать минут на сборы и до свидания в Сибири или в Средней Азии! В чеченском колхозе имени коварца… Я про Берию.[372] Вспомнилось, слышал… В тридцатые коварец Берия был главным чекистом в Грузии.
И вот однажды в парике он присутствует на суде меньшевиков. И вдруг один подсудимый ляпнул:
– А! Дорогой Лаврентий Павлович! Я композитор. У меня музыкальный слух. Я узнал Вас по голосу.
И по приказу Берии тому композитору проткнули ушные перепонки… Оглох композитор…
Позже к Берии на отдых приехал в Абхазию Сталин.
И вызывает Берия одного своего подчинённого стрелюка и так говорит:
– У меня будет сегодня встреча с дорогим товарищем Сталиным. И на этой встрече ты должен убить дорогого товарища Сталина. Но так убить, чтоб не убить. Я вынужден буду спасти дорогого товарища Сталина от тебя, ненаглядный ты мой паршивец. Когда войдёшь, наведёшь пистолет, внимательно посмотри. Не стреляй раньше срока. Подожди, когда я успею заслонить собой дорогого товарища Сталина, тогда и стреляй. Но не стрельни так, что меня первого и уложишь. Смотри, что тебе за это будет персонально от меня! Когда увидишь, что все на своих местах, тогда и стреляй. Не прямо в нас, а чуть-чуть влево. Сделаешь как надо, я персонально отблагодарю.
Стрелюк кивнул.
Когда дорогой товарищ Берия закрыл собой более дорогого товарища Сталина, ахнул выстрел. Пуля прошила слева в четырёх с половиной сантиметрах от правого виска очень дорогого товарища Сталина.
И очень дорогой товарищ Сталин это ясно увидел и оценил.
Высоко оценил мужественный поступок своего спасителя. Кликнул к себе на работу в Кремль. Болтались скользкие слухи, что вроде метил его в свои преемники.
И дорогой товарищ Берия не остался в неоплатном долгу. Помог более дорогому товарищу Сталину поскорей умереть.
И стрелюка не забыл отблагодарить.
Персонально расстрелял его через полчаса после фатального левака выстрела…
Или… В конце войны в селении Хайбах колхоза имени Берии согнали семьсот человек, среди которых было много стариков, больных, детей и повезли якобы к поезду. Но органы НКВД не укладывались в срок, отведенный на депортацию, и руководитель акции Михаил Гвишиани принял решение уничтожить переселенцев. За селом людей затолкали в конюшню, обложили её соломой и подожгли. Люди выбили дверь, стали выскакивать из огня, а служаки Берии их расстреливали. Никому не дали уйти… Люди Берии хотели преподнести своему патрону особенный подарок. Ведь именно сам Берия правил высылкой и был тогда на Кавказе, в Грозном. На месте.
Берия, получив доклад Гвишиани, ответил: «За решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайбах вы представлены к правительственной награде с повышением в звании. Поздравляю».
– Мда-а… Есть над чем подумать…
– Папа, а за что же Вас раскулачивали?
– А за то, сынку, что наши в колхоз не пошли… Сляпали там у нас колхозище. И погнали всех, как скотиняку в загон, в той колхоз. А наши не пошли. Так наших за это объявили кулаками, хоть наши и не держали ни единенького работника. Нагрозились отнять нашу хату под школу. Грозили всё повыкидывать во двор. Иди куда знашь! – орала голодрань ленивая, эти чёрные коммунары.[373] Коров, лошадей позабирам!.. И забрали… Однажды ночью подняли весь дом и под конвоем всех на станцию… В чём были, то только с нами и осталось… А всё нажитое праведным трудом хапанули чёртовы Советы… Ах, змея-подлюка эта Софья Власьевна… Как верно рубанул про неё Яковлев!..[374] Что она злая Софья-подколодка, утворила с нашим родом… И из-за чего началось? Гнали ж, повторяю, в колхоз. А мой батько не пошёл… Концлагерь ему за то! И на воротах того концлагеря висел такой плакат
«ЖЕЛЕЗНОЮ РУКОЮ ЗАГОНИМ ЧЕЛОВЕСТВО К СЧАСТЬЮ!»
Отсидел. Снова гонют в колхоз. Не идёт… И тогда всех наших вытряхнули в ссылку!.. И всё наше нажитое за долгие – долгие годы досталось коммунякам… Хоть бы одним глазком глянуть, что ж сейчас деется на нашей родной землице, с которой нас сдёрнули?
– Я, папа, глянул… Не возрадуетесь… Дом наш брали под школу. Потом вывезли куда-то в поле. Слепили из него курень для чабанов. Те по пьянке его сожгли…
– А наша земля?
– С Вашего двора я привёз Вам пакетик земли… Оставлю Вам… На месте дома сейчас – пустырь. За домом у Вас был огромный сад-огород. И там пустырь. Все деревья повырубили… Без Вас вся Ваша земля умерла. Её бросили. Ничего на ней не сеяли… И все шестьдесят лет на ней живут-бесятся лишь одни сорняки.
– Ах, коммунисты… Хреновы хозяева… Ну их… А тогда, в тридцатых, распшикали всех наших по гибельным местам. Сибирь, Колыма, Заполярье… Ночью подняли и в красный телячий вагон… В Заполярье… Оттуда в Грузинию… Стариков моих отрезали от нас, загнали куда-то в Сибирщину. Так я про них ничего никогда и не узнал больше… Сибирскими холодами добили… Мы с Поленькой переколачивались из барака в барак… из барака в барак… Так из барака и отнесли на погост и Поленьку, и Глеба?
– Отнесли… Из барака… Всю жизнь толклись в очереди на человечье жильё. Всё обещали… И только в земле твёрдо дали отдельные домовухи…
– На обещания коммунисты горячи. У нас в Криуше отчекрыжили целый дом и всё в нём, под ноль, умели всё хозяйство. А всю жизнь в нищете продрожали наши по советским сараюхам. Только покойникам нету отказа. Дали вечный домок только в земле… И это хвалёный советский рай? Ну разве наша чёрная, рабья жизня не смертельный приговор советскому раю?
– И без слов ясно…
– А тогда, перед войной, думали, подымем вас, ребятёжь, на ноги. Заживём хорошо-хорошохонько… Зажили… С середины войны я в братской могиле… И вы в сараях-могилах… Что ж с нами так обошлись? В своём Отечестве всю жизнь без дома… Из сарая в сарай… Из сарая в сарай… Мотало, мотало ветром вечной беды, покуда не вогнало уже полсемьи под могильный холмок. Что же так с нами обошлись?.. С нашей Россией?.. Переломал вовчара хребет Россиюшке. Не своё ломал… Этот корнем, слыхал, чужой. Неужели это верно? Полжизни жировал по заграничью. Кто топтал наш крест? Кто плевал на наш крест? Кто перебил стан России? Всё о-он… кепка картавая… Семьдесят три года тает свечечка… Неуж Кузьмичи совсем доплюют?.. Догасят?..
– Ну уж! Есть Кузьмичи. Но есть и Ни-ко-ла-евич!
– Спасибушки Богу, сберёг Николаича. Не забрал Надежду. Можь, ещё подыметесь с Николаичем…
– Обязательно подымемся!
– Вот уже почти турнули Советы. Легче стало?
– А не то! Верная пословица… И жизнь всласть, как ушла Советов власть…
– Так-то оно способней… Вот мы толковали про Сталина… Только ж пять процентов россиян согласны жить в сталинское время… Только пять… Народ той же монетой отвечал на нелюбовь к нему Рябого. В декабре ж 1947 года Рябой отменил празднование Дня Победы, сделал 9 Мая рабочим днем. Мол, нечего таскаться со своими боевыми орденами по парадам. Забудьте свои военные подвиги, давай трудовые подвиги! Надо восстанавливать экономику! Вот такое было наплевательское отношение к победителям…
– Сталин – это чёрное, жестокое прошлое навсегда ушло…[375] Теперь и я навконец-то спокойный буду за всех вас!.. Толкай чёрт в спину те проклятущие Советы… Подальше от России… Горько всё вспоминать… Меня ка-ак топтали эти проклятухи Советы, ка-ак топтали… Кулак!.. Кулак!.. Всё отняли… Репрессии…[376] В ссылку согнали… В Заполярье, в малярийной гнили Грузии ломали. Брезговали мной. А прищучила война, меня, инвалидного кулака, тут же угребли под ружьё в счёт какого-то чалдона… Откупился тот тараканий подпёрдыш от фронта, от смерти. Да я бы и сам пошёл… Война… Держава в беде… Я б и сам пошёл, только по-честному власть всё крути… А так… Обидно… Тяжко, сынку, преть мне здесь в подземелье вдальке от вас. Я б, может, тут и не был, может, и по сей бы день жил при семье… с Вами… если бы… Да что… Проклятые Советы кулака убрали – в вечный голод сами пали… Работать на земле так и не научились… Что ни посеют – нужду да голод жнут… Вовеки бы эти Советы не знать… Забудем их… Прежде чем подосвиданькаться, давай лучше на памятку сымемся. А то мы в последний раз сымались когда? Всей семейкой?.. Ты в пелёнках у матери на коленях… В Насакиралях, в том совхозе-колонии, под ёлкой… Тому десятков пять… Спустись на Северную, десять. Там фотофабрика. Тебе сразу скажут: на мемориале не сымаем. Нету у нас там своей точки. Зато у вокзала целых три точки у них. Даже с обезьянкой сымут. А к мемориалу – сотни три шагов! – лень подняться… Ты там не особо слушай. Попроси позвать Юру Коломийчука. Безотказный парняга. Один и ходит к нам… Сымет…
Я и Валя снимались с отцом, но не видели его.
По мрамору стены лились к плечу буквы, выстраивались в нашу фамилию. Меня встречно клонило к ним, толкало подойти ближе – я не мог перешагнуть через полоску капустки с маленькими рдяными цветками и такими же рдяными листочками, («Без боли неба не взрастёт цветок капустка…»), не мог перешагнуть через плотную ершистую, ровно подстриженную легустру, зелёный кустарничек ростом в пояс.
Две живые полоски, красная и зелёная, промыто, светло улыбались вдоль всей дуги стены. И ничего печальней не видел я в жизни.
Юра снимал нас четыре раза. И всё это время что-то во мне набухало, зрело. Наконец, когда он щёлкнул в последний раз затвором и стал закрывать свой аппарат, я не выдержал и заплакал, опускаясь на корточки.
2
Помогать в нужде друг другуМы обязаны всегда.Друг – нам верная опора,Если встретится беда.Шота РуставелиОт отца мы поехали с Валентиной в Насакирали.
И на первой же остановке, в Адлере, увидели, что весь простор у станции был заставлен палатками.
– Кто в палатках? – спросил я грузина проводника (поезд был тбилисский).
– А, кацо! Месхи!
– Что они здесь делают?
– Спроси, дорогой, у них.
Я Валентину за руку и из вагона.
– У тэбя, чито, родствэнники срэды ных эст? – зло пустил вослед проводник.
У меня не было родни среди месхов.
Но я не мог как-то так просто проскочить мимо.
Я не мог и самому себе объяснить, почему я пошёл. Встал и пошёл. Ноги сами пошли. И что мне оставалось делать?
Меж старых, закупанных дождями, объеденных солнцем и устало обвислых палаток, пришибленно бродили люди.
В сторонке на траве лёжа читал газету плотный закоптелый мужик. Под головой у него державно сопел крупный пожилой пёс.
Мужик в досаде саданул кулачиной в газету.
Пёс даже охнул.
– Вы за что бьёте газету? – спросил я.
– Её не побить… Разорвать мало!
Он проворно подлетел ко мне, горячечно подолбил куцапым порепанным в тяжких трудах пальцем по статье «Приезжайте, Твистоми[377] вам поможет».
– Проституткин статиа! Смотри, ка-ак пишэт!.. Ка-ак пи-ишэт!..»… грузин, живущий за пределами родной земли, находится за границей… Места компактного проживания моих сородичей… Турция, Иран, Франция, Москва, Саратов, Дагестан…» А где здесь Фергана? А где здесь Смоленск? Месхи им не грузины. Иностранцы! Тогда кто им Шота Руставели? Грузин перви номер! А Шота – наш! Месх! Далше. – Он воткнул яростные глаза в газетный лист: – «Мы ставим целью, чтобы проживающие за пределами Грузии её сыновья и дочери знали свои национальные традиции, литературу, историю, искусство… На сегодня в республике проживает 38 процентов представителей других национальностей, и потому мы так обстоятельно взялись за возвращение грузин в Грузию». Эти, котори пишэт, умни, как цар Иракли. Зачем брехать? Каких грузин он возвращаэт, эсли нас даже на грузински порожка не пускает? Шоссе на Сухум от нас закрили, все гори закрили! Ми уже знаем, в Гагре эст «временный штаб народно-освободительного движения по предотвращению незаконного шествия на Грузию». А! Наше возвращение на Родину – незаконное шествие на Грузию! Ми идём домой! Наш дом – Ахалцихе! Руставели эщё в двенадцати вэк написал «Витязь в тигровой шкуре». Ми древни… Болной Сталин послал нас на Фергана… «Братки» узбеки сколко убивал нас?.. Мы идём к себе на дом. А нас не пускают домой! Эти там, – кинул он руку в сторону Грузии, – много об себе понимай!.. Лениви! Трусливи! Воришки! Это крэпко лубит, – щёлкнул себя пальцем по горлу. – Горди, как орли, безделники!..
– Постойте. Вы зачем оскорбляете целую нацию? Что Вы говорите?
– Это не я. Это великий грузин Илиа[378] сказал про них ровно сто двадцать лет назад. Ты читал его стихе «Как поступали, или История Грузии XIX века»?
Из потайного нагрудного кармана он достал чавчавадзевский томик. Раскрыл на нужных страницах и подал мне:
– На! Читай!
КАК ПОСТУПАЛИ, ИЛИ ИСТОРИЯ ГРУЗИИ XIX ВЕКАПовстречав однажды деда,Я зевнул, как полагалось.Он зевнул, и вот беседаМежду нами завязалась.«Дед, – сказал я, – ты на светеЖил немало. Сделай милость,Чем, скажи мне, в годы этиНаше племя отличалось?Например, когда иссяклиСудьбы Грузии единойИ ушел от нас Ираклий[379],Благодетель наш старинный, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Всем известно: рот разинув,Лишь чесались да зевали».«А когда Георгий[380] в гореВоцарился на престолеИ враги восстали вскоре,Чтобы он не правил боле, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Разоряясь понемногу,На куски друг друга рвали«А когда от неустройстваСтал не рад Георгий жизниИ не стало в нас геройства,Чтоб служить своей отчизне, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Мы за помощью в РоссиюСо слезницей побежали».«А когда лезгин весноюЦарь привел для ополченьяИ пожертвовал казноюРади общего спасенья, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?На тахте мы развалилисьИ душою возликовали».«А когда почил в могиленаш Георгий, и царевыБратья, ссорясь, повалилиЦарства нашего основы, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали??Мы их все поодиночкеПревосходно предавали».«А когда в державе павшейВоцарился царь соседскийИ судьбы отчизны нашейСтал швырять, как мячик детский, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Мы, отвагою пылая,На Кабахи[381] в мяч играли».«А когда нам становилосьС каждым годом тяжелееИ когда явивший милостьЗатянул петлю на шее, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?На одной мы сковородкеВсе поджариваться стали».«А когда в жестоком пеклеДень мы прокляли рожденья,И мыслишки в нас окрепли,И пришло в порядок зренье, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Собираясь на задворках,Перешептываться стали».«А когда про эти речиУслыхали наши властиИ, загнав в хлевы овечьи,Проучили нас отчасти, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Мы в испуге друг на другаКлеветали, клеветали».«А когда ценой доносаКой-кто спасся невредимыйИ смотреть мы стали косоНа печаль земли родимой,-Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Мы без просыпа от счастьяПировали, пировали».«А когда весь день с гостями,Позабыли мы про дело,И мошна за кутежамиПонемногу опустела, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Мы именья друг у другаОттягали, оттягали».«А когда таким манеромРазорили мы друг друга,И, к крутым прибегнув мерам,Подожгли свой дом с испуга, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?У костра мы грели рукиИ на бога уповали».«А когда все наше знаньеПревратилось в пепелищеИ когда у нас дворянеСтали немощны и нищи, – Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Мы вскарабкались повышеДа крестьян в тиски зажали».«А когда крестьян подвластныхУнесло времен теченьеИ в именьях столь прекрасныхНаступило разоренье, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Эх, сынок, к чему вопросы!Тут-то мы и застонали».«А когда мы этим стономКрепостных не возвратилиИ о рабстве отмененномПонемногу позабыли, -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Банк придумали земельныйИ над ним же хохотали».[382]«А когда, полезный детям,Банк услышал от кого-то:«Я бездетен, с банком этимМне возиться неохота», -Как тогда мы поступали?»– «Как тогда мы поступали?Мы, с правительством поладив,«На плечо!» учиться стали».«А когда…» – Но рассердилсяСтарый дед и крикнул строго:«Что ко мне ты прицепился?Отвяжись ты ради Бога!«Как тогда мы поступали?Как тогда мы поступали?»Как и ты без дела шлялисьДа язык, как ты чесали.24 августа 1871– Вах-вах… – глубокомысленно покачал я головой, прочитав стих.



