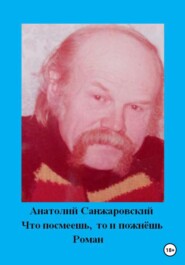 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
И больше ничего я не мог сказать.
– «Братки» узбеки убивал нас мно-ого… Спасиб, Россия взял к себе.
– Вам не нравится в России?
– На Россия хороши народ, зато бе-едни, как в Африке… Нас в разни село посилал по пять-шесть семья. Рассэяли, как пепел Индири Ганди по Гангу. Зачэм живи на чужой сторона, когда у тебе эст свой Родина? Зачэм?
– Но ваш поход на Родину – это кровь?
– Да. Но смерт дома лучше, чем живи у чужих. Нас тища и эщё половина тища… Пойдём! Ми устали без дома…
Сухумская электричка явилась не запылилась с опозданием на два часа.
И никто не роптал.
Мы ехали в страну хаоса, где всё смешалось, как в дурном сне.
В Гудауте электричка стала.
Путь перегорожен автобусами.
Что? Почему?
Оказывается, Абхазия объявила независимость, забыв спросить на то высочайшего согласия сухумских локомотивщиков.
А сухумские локомотивщики против независимости.
Быстренько забастовали.
Красный свет зажгли и в ту, и в ту сторону.
Ровно за пять минут до полуночи.
За божескую плату мы добрались на попутках до Пшапи. А наутро одно автобусное место из Адлера в сторону в южную подскочило до 170 рублей.
Ну… До Пшапи допшикали, а дальше как добираться?
Пока голосовали, меня чуть было не забрили в вояки.
И кто?
Пацанва грузинская. Подвалила стадом и сразу хором:
– Слюши! Оставайся давай живи у нас. Жэна будэт на мор купаться, а ти будэшь ночью ду-ду-ду-ду из калашник абхазов с нами косить. Ми им покажэм нэзависимост!
– Милаи! – взмолился я. – Умаяла меня ваша простота. Что поёте-то? Что за фенькин номер? Кто я у вас?
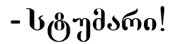
– И что же вы, ханурики, гостю суёте в руки автомат? Заставите бить тех, с кем веками плечо в плечо жили? Не-ет уж! Свои сациви кушайте вы, дружики, сами!
Попутный «жигуль» подкинул нас до Самтредиа.
Ему налево. В Кутаис.
Нам направо. В Махарадзе.
Мы живой ногой на станцию. Может, поезда пошли?
Какой там!
Во все стороны, насколько брал глаз, составы сонно тянулись зелёными хатками.
Бесприютная пассажирская детворня скучно бродила под вагонами. Как куры.
В вагонной куцей тенёшке прели от азиатской жары отдыхальщики. Трёх поворотов не доскакали до моря!
На наш немой вопрос дремавший на вагонных ступеньках старчик буркнул:
– Мёртвый сезон в распале. Восемнадцать тыщ нашего брата вляпалось в самтредский капканище. Тоже нашли игрушку… Свою паршивую политику нашими слезами разводят!
Пикетчики тут скакали за двумя зайками. Поверх расчёта с клятой независимостью им ещё надо выжать из Тифлиса срочную сессию и принять новый закон о выборах. He просто новый, а более демократичный. Более!
Но при чём здесь эти несчастные, замордованные люди с поездов?
Натанеби.
Мы из автобуса – напротив поезд на Махарадзе раздувает пары. Объявляют отправку.
Едва влетели в вагон – двери за нами зло, с шипом сошлись, как бархатные крематорские створки за опускающимся в огонь гробом.
Пустой ветхий вагон скрипел, пьяненько пошатывался.
Было такое впечатление, что он мог вот-вот лишиться какой-нибудь своей важной части, если вообще не рассыпаться прахом.
Мы с Валентинкой таращились за окно на дивы кавказские. Что горы вдали, что сады окрест – всё радость, всё восторг, всё ах!
В вагоне было всего-то два грузина, и те резались в шахматы.
Мы сели напротив.
Присутствие зрителей подогрело игроков.
Тот, что помоложе, энергично сунул своего ферзя в серёдку доски с аварийным криком:
– Мат!
Грузину постарше думать как-то не терпелось.
Он схватил своего короля и торжественно, с ликующим пристуком водрузил впритык к чужому ферзю.
Тоже с ритуальным криком:
– Атэц!
Начался объединённый крик. С обменными тычками. Они как бы отталкивались друг от друга.
И с поминанием мамы во всех падежах.
Причём несчастная мама поминалась исключительно на русском языке. Похоже, в знак глубокого уважения к русским гостям.
У нас прокис интерес к их борьбе до королей,[383] и мы утянулись в соседний вагон.
Кроме нас теперь во всем вагоне была лишь одна-разъединая дебелая тетёха с толстым властным лицом и с причёской «Куда хочу, туда торчу!»
Мы сели поближе к ней и, не убирая глаз с окна, жаловались меж собой. Что же мы сели без билетов? А ну ревизор?!
Тетёха с лукавой бесшабашинкой послала нам короткий вопросец в разведку:
– Сталин жывёт?!
– Ну! – в тон ей дуря резанул я, лишь бы отвязалась со скользкими наскоками.
Тетёха младенчески воссияла.
Что хотелось бабе, то и приснилось!
– Маладэц, генацвалико! Сиди спокойно. На билэт нэ волнуйся! Ти идёшь на мой страна – правилно знай моя язик! Я на твой доме знай твои езык. Консэнсунс, да! И рэвизор ти не бойся. Здэс рэвизор я!
А чтоб я не засомневался, кто именно, она приложила лопатную ладонищу к гренадерской груди.
– А эсли придёт эта… – она ужала плечи, сгорбилась, нарочито затрясла рукой и сделала ею несколько тех движений, какие обычно делает ревизор, пробивая дырочки на вашем билете, – так ми эго машинку эту, – она опять пожамкала рукой, – вибросим чэрэз окно вмэстэ с ным! Нэ бойся!.. Он придёт на вагон… Ми луди добри… Пустим… Пускай эдэт, если хочэт. Но молчи. Тыхо, бобик! Эсли скажэт: давай покажи билэта, я скажю эму културно: сначал ти давай покажи свою билэту! Сам бэз билэт, а с тэбе требуэт! Покажи, нахал, свой! Он всё равно ничэго не покажи. Нэту! Сама зайка-замазайка!.. Ти бэз билэт, он бэз билэт… Какои разница? Ми эму эсчо здэлаем крупни штраф! Нэ бойся!
И, право, безбилетные страхи как-то сами собой отлились.
Мы с Валентиной плотней, надёжней подсели к окну.
Боже, что за небесные места!
Где ещё увидишь такие картинки?
Долго ли, коротко ли мы ехали…
С обрыва мальчишка махал поезду рукой.
На какой-то миг наши глаза столкнулись.
Малец зверовато дрогнул, подхватил с земли каменюку и запустил в нас.
Едва удёрнулись мы за вагонную стену, как окно с гремучим звяком ссыпалось на пол.
Ну паршивец!
Неужели мои рыжие усы так подожгли этого загорелого тимуровца?
Поезд, слава Богу, не стоял на месте, знай себе шёл, и жарившие вдогонку камни уже не нагоняли нас.
– Перегрелся паинька на кавказском солнышке, – промямлил я.
Наша спутница вяло подставилась сквозняку, что туго ударил в разбитое окно.
– Хатэл – махал… Хатэл – кидал… Чито хочешь, генацвалико, дэлай… Пэрэстройка!.. Камни, пожалюста, бэй!.. Сразу нови воздух пришла!
Она лениво загребала рукой к себе воздух и больше ничего не говорила.
Скоро мы пристыли где-то посреди двора.
Из соседних вагонов ватно вышли распаренные парни.
Пали на травку отдохнуть.
Бычок рядом перестал собирать травку.
С верёвки в панике пялится на них.
– Почему так долго стоим? – допытывается нетерпеливый молодой голос. – Что стряслось?
– Страшная чепешка. Это до скончания века. Авария! Проводница попала под машиниста. Пока вытащат из-под этого разврателли…
– Не вяжи чего зря. Машинистик в очереди за картошку героем бьётся!
Я перешёл к окну напротив.
Знакомый пейзаж.
Мерия!
В этом местечке жила русская лётная воинская часть.
У ларька очередина в три обмота.
Машинист боком протирается сквозь толпу, нерешительно бормочет, будто мусолит во рту огурец:
– И товарисчи… и граждане… и все остальные примкнувшие к дорогой очереди любезные господа… Я только спросить… Я только спросить…
Ещё на подступах к прилавку он готовно раскрыл мешок.
Это его и погубило.
– Мешок спрячь и так спрашивай! – потребовала злая очередь.
– Я не мешок свой спрашиваю… Я вас спрашиваю… Не видали, куда пошли два моих друга Сунь Ху Чай и Вынь Су Хим?
Очередь заозиралась.
Что за друзья? Куда могли уйти?
Очередь опрометчиво потеряла бдительность, и машинист тут же проявился у прилавка.
– Эй! Синоптик![384] – пробивается к нему капитан, тощий длинный горбыль. – Не крути нам мозги! Умней всех? Да?
– Да! – с вызовом подтверждает машинист. – И этого не стыжусь!
– А я говорю – нет! Без почему[385] недоучила тебя школа. Ты знаешь, что такое советская очередь? Очередь тебе не шалтай-болтай! Очередь – святое дело! Очередь, наконец, – это подход к прилавку по-коммунистически! По-ком-му-нис-ти-чес-ки!!! Все культурно стоят, вежливым стерильным дыханием в затылок согревают друг друга… А он один напроломище лезет! Не ломай порядок. Я научу тебя ходить бороздой! Давай, сизокрылый, лети в хвост очереди!
– Притронешься, тарзан, – сам полетишь!
– А ну крути отсюда педали, пока не дали!
Капитан хватает его за руку и выдёргивает из переднего края доблестной очереди.
– Доволен, что сильнятка? – полульстиво выговаривает машинист, и в мгновение снова просекается на подступах к дорогому прилавку, тычет в свой сипло вздыхающий паровозишко:
– Люди! Думайте ж вы умом! Забойтесь Бога. Мне ли торчать в вашем базаре?
– Ты на работе. Куда тебе ещё спешить?
– Уступите мне без очереди. Иначе вы все останетесь без картошки! Вы что, хотите, чтоб тут были все мои пассажиры? Да если они узнают, что здесь дают картошку… Все до одного набегут!
Крики. Толкотня. Гам.
– Крэмл… Сэссия… – хладнодушно поясняет тетёха, ни к кому не обращаясь.
Машинистик умудряется боком прорезаться прямо к весам. Худобный капитан тут же вылавливает его за мешок из давки. Снова отлучает от призового первого места.
Правда, можно было выпустить мешок и спасти первое место.
Но во что тогда брать проклятую картошку?
Машинист соскакивает с тормоза, с подпрыгом – он мелок ростом – мазнул великанистого костлявого обидчика по метровой щеке.
Конечно, в ответ получает свою звончайшую.
– Плюйрализм… – уныло сообщает нам бабец.
Мужики раскипелись, как истинные витязи, хоть и без тигровых шкур, кидаются друг на дружку.
Между ними проворно влезает какая-то мурлетка. Может, благоверная долговязика? Не баба, а таран! Пробует растолкать их.
Только не драка!
– Баба нам указ!? – энергично спросили друг у друга драчуны.
Оба оскорблены и потому объединёнными силами наваливаются на бабу. Отшвыривают её к плетню.
Она резано взвизгивает.
– Гла-асност… – кисло тянет вагонная наша толстея. – Наплюйрализма бил… гласност бил… А консэксус… – картошка – нэту…
– Уйди через пять минут! – хрипит морёный дуб.[386] – Не наш ты, хачапур, пельмень! От меня до следующего дуба шагом марш! Отвинчивай отсюда!.. На шестой минуте – ё твою картошку! – задушу!
– Не успеешь, бесценный! – петушится машинист и моляще окидывает голову очереди. – Ты что, троганый? Или таракановки перехлебнул?
Очередь молча сдаёт назад. Уступает.
Дубчик снимает с запястья часы, держит перед глазами.
Ему кажется, секундная стрелка обманывает.
Он подозрительно пересчитывает за нею сонные секунды.
На отходе четвёртой минуты машинист с беременным чувалом приседает чуть благодарно перед капитаном и вприбежку несётся к паровозу, довольно припевая:
– У верблюда два горба-а,Потому что жизнь – борьба-а…На рельсах машинист споткнулся и упал.
Прелая завязка лопнула. Мелкокалиберная, как горох, картошка ликующе брызнула во все стороны.
Весь хвост очереди угнулся подбирать ненаглядную картошку.
Капитан на кислом распутье.
С одной стороны, шестая уже минута стучит, а клоп всё здесь. С другой стороны, не у ларька, а совсем на новой, нейтральной территории. Душить? Не душить? Да и проездом он тут… Гость вроде. Гостя душить? Вроде как не по-кавказски…
Наконец, картошка вся в полном сборе, мешок прочно завязан.
Разомлелая радость разлилась по лицу машинистика.
С корточек он прилип спиной к мешку, ухватился обоими кулачками за хохолок, а поднять не может.
– Замечаточно… – оправдательно шепчет хмырик. – Спасибища вам, Михал Сергеич, за предупреждение, что в ближайшие год-полтора всех нас ждут трудные времена. Господи! Что мне год-полтора, когда у меня есть целый мешок картошки! Что всем нам год-полтора, когда мы целых семьдесят три откуковали! Хватили мурцовки![387]. Как «Отче наш» заучил я наизусть вашу дорогую указивку: «Надо их выдержать, пройти достойно этот крутой перевал в истории страны на пути к её большому и славному будущему». И выдержим, и пройдём достойненько! Не привыкать! И готовы строевым шагом войти-с в ваше славненькое, в ваше светленькое-с. Шаг наработали с семнадцатого. Стаж! Хватит состязаться в мычании! Хватит собирать шерсть с пупка. За дело!!!
– Клоп-демагог! – сердито пыхнул поджара. – Кто за тебя будет подымать твой мешок? Ну… музи-зюзи… Разве что по симпатии к тебе…
Морёный дуб схватил поперёк мешок, метнул к себе на горб.
Машинистик как держался за хохолок, так и держится, дурачась, завис у капитана за спиной.
Все хорошо засмеялись, захлопали:
– Вот так мульти-пульти!
– Вот так муроприятие!
– Стон со свистом!
Так под шлепоток понёс мускулан вразнокачку мешок и машиниста к паровозу.
– Вот «разутой социализм с человеческим лицом»! – крикнул кто-то. – Один везёт другого! Ну, страна мудряков!
Худобкий мушкетёр капитан спустился из кабины.
В шутке кинул наверх машинисту-побродяге:
– За такой стервис с тебя причитается стопарец… Нет! Полный ограничитель[388] мураша![389]
– Завезу к следующей очереди! Вот мы и пришли к солгасию.
– Лети, муля! Да не проскочи коммуну!
– Так точно,

Невесть откуда взялась у магазинчика гармошка, и наш поезд отходил под частушки.
Под окошком плачет нищий,Подала советской тыщей.Бросил тыщу на песок,Просит хлебушка кусок.Перестройка, перестройка,Хорошо идут дела.Даже Рая ГорбачёваПоросёнка завела.По талонам – горькую,По талонам – сладкую.Что же ты наделала,Голова с заплаткою!Не пойду я на работу,А пойду на танцы я.Нас Америка прокормит,ФРГ и Франция.Дальше мы звенели на всех парах без единой остановушки.
Видимо, машинист давно картошки не ел.
Тихое изумление, замешанное на неясной тревоге, не давало мне отойти от окна. За окном встречно текли-лились места родней не назовёшь.
Сверкнула блёсткая петля дороги.
Каждый день во все три года я дважды проносился по ней.
В школу – из школы.
В школу – из школы.
Как заведённый.
Отозвался внизу весёлым, торопливым стуком мост через Натанебку.
Затолпились по обе руки знакомые дома.
Дремотная махарадзевская окраинка.
С ноющим сердцем глянул я на нашу спутницу, кивнул на окно.
– Махарадзе!
Она чужевато поморщилась.
– Генацвалико! Гдэ Махарадзе?
Я показал на мелькавшие корпуса званской чайной фабрики.
– Генацвалико! Махарадзе ми проэхали!
– Не могли мы Махарадзе проехать. В Махарадзе тупик.
– Она тоскливо пошатала головой:
– Эсчо про́шли год проэхали… Эсчо прошли год Махарадзе получил свои стари име Озургети… Вот! Дажэ написали!
Верхом она качнулась к разбитому окну.
Мы как раз остановились напротив вокзалика.
Над входной дверью болезненно белели буквы ростом в локоть:
ОЗУРГЕТИ
Я помог тётечке.
Ссадил её узлы на землю, и мы расстались без слёз, без поцелуев. Хватило просто улыбок.
В редкий снег или в дни, когда велосипед мой был сломан, я бегал в школу через станцию.
Бывало, скачешь, скачешь по этим путям в масляной траве. Ни конца, на границы! И громадный был вокзалина, неприступный. Иной раз боязно было через него пройти. Обежишь по боковой каменной лесенке и дальше.
Теперь мне бежать некуда.
Вроде вокруг всё то же.
А как-то всё мало, тесно лежит, будто в кулачке.
Не подмолодел я за эти три десятка лет, sosтарился и вокзалик. Смотрит заброшенно, уныло… В зале всё как было. Только газетный киоск вынесли под окна на перрон, и в полу пробили выход в город.
Справа стоял памятник Филиппу Махарадзе.
Только выглянул в город и сразу видишь главную достопримечательность, этот памятник человеку, чьё имя город носил с тридцать четвёртого года.
Памятник сейчас в деревянном тулупе-нахлобучке.
Почему он взят в доски?
– Так лучша, – вшёпот пояснила вагонная спутница. Она ждала троллейбус. – Когда пришёл пэрэстроика, кто-то вмэсто цвети поставил Пилипе вэдро с дарами выгребнои ями. Вэдро убрали, памятник закрили на доска.
– Был же, вроде, видный революционер?
– Какои револсинер? Видни бандыта бил!
– И кто же бандиту поставил памятник?
– Видни бандыту сдэлали памятник эсчо виднэи бандыты!
Вокзальная улица слилась на главную Театральную площадь с театром Цуцунавы.
В Озургетах, в семье военного, родился Немирович-Данченко.[391]
В Москве, в музее МХАТа, я видел выписку из свидетельства о рождении:
В метрической книге троечастной, хранящейся при церкви Кавказского линейного № 32 батальона во имя Успения пресвятыя Богородицы, за тысяча восемьсот пятьдесят девятый год в мужской графе под № 1 значится
1858 года декабря 11 дня рождение, а генваря 18 дня крещение
Владимир.
Воспреемники: Озургетский уездный начальник, по армии капитан и кавалер Александр Николаев сын Подколзин и Озургетской городской полиции надзирателя князя Цулукидзе жена Мария Георгиевна Цулукидзева. Таинство крещения совершил батальонный священник Иоанн Шменев с церковниками Петром Гладким и Алексеем Поповым.
Сделал выписку тот же отец Иоанн.
Он подписался так:
Кавказского линейного № 32 Батальона
Священник Шменев.
Итак, в Озургетах родился Немирович-Данченко.
Тот самый.
Знаменитый, как солнце.
Но здесь сделали вид, что ни про Немировича, ни тем более про Данченка и не слыхивали ни одним ушком. Приварили театру имя Цуцунавы. Кто такой Цуцунава? И вида никакого не надо делать. Ничего и так не знаешь.
В мою школьную пору театр ещё строили.
Зато над площадью уже могуче плыл самый крупный в мире памятник Сталину. Не в пятьдесят шестом, не то в пятьдесят седьмом пограничники еле взорвали. Слит был на века.
Теперь на площади был сущий театр, декорация к пьесе из жизни кочевников. Брезентовые палатки, натянутые верёвки, раскладушки, вёдра, топоры. Голодающие были в белых повязках на головах.
К тумбоватым колоннам театра, скопированного с Большого в Москве, были спинками распято приставлены одноногие фанерные щитки с плакатами-лозунгами.
В бразильском фильме «Рабыня Изаура» (дело происходило в прошлом веке) новый фазендейро Альваро за три часа отпустил на волю своих рабов и раздал им всем всю свою фазенду в аренду.
В Китае поделили землю между крестьянами за одну зиму!
А у нас семьдесят три года тянут земельную резину.
Читаю с плакатов.
«Землю – нам, крестьянам!»
«В КПСС произошел раскол: по одну сторону оказалась партия, по другую – ум, честь и совесть нашей эпохи!»
«Коммунисты – выдающиеся творцы чистоты магазинных полок».
«В 1913 году Россия занимала по жизненному уровню тринадцатое место в мире. Сейчас мы прочно удерживаем шестьдесят восьмое место. Вечная слава перестройке!»
«Да здравствуют нищие Советского Союза! самые нищие во всем мире!»
«В перестройке главное не победа, а участие».
«Коммунизм – высшая стадия фашизма! Высшую меру – высшей стадии!»
«Фашизм и коммунизм – две трагедии, очень похожие друг на друга».
«Не ладно в лагере марксизма,В святых основах явный сбой.И бродит призрак коммунизмаУже с протянутой рукой».«Коммунисты всех стран!Соединяйтесь и убирайтесь!»Наискосок от Сталина жировал райком партии.
И как только Сталина снесли, райком быстренько перебежал в новёхонький дворец у памятника Ленину.
У памятников как-то солидней, надёжней живётся.
У Ленина, по другую руку, прикопалась и наша школка.
А в старом её здании на улице Ниношвили, на бугре, где я учился, теперь детский дом.
Меня впустили.
Я побродил, побродил по коридору, по своим классам.
На камчатке, в углу я сидел плечом к плечу с глуховатым простодушником из Лайтур Георгием Мачавариани. Вот тут сидел Тоганян… А тут Лидуша Сидорова… А тут Зиночка Свешникова, сладкая моя сердечная занозка. А тут Нина Решетникова… А тут Лида Кобенко… Где они? Что они?..
Все они собирались на выпускной.
А я не пошёл.
А в чём бы мне идти? В кирзовых сапожищах? В застиранной до смерти вельветовой рубахе?
А чуть раньше все они снимались на общую карточку. У меня нет той карточки и меня нет на ней.
Я было полез фотографироваться, пристроился в задних рядах, да вспомнил, не на что будет выкупить карточку, и, угнувшись, вылез из радостного, суетливого содома. Как жаль, что никто не заметил, не вернул меня тогда…
Во дворе я сломил веточку с толстой, с одутловатой ёлки, под которой, опоздав в дождь на первый урок, выжидал переменку; сорвал листок с чайного куста… Всё память…
Да было ли всё то, что было?
По временам мне кажется, не было, как нет и старого торгового центра в городке, что выгорел в пожар. На том месте разбили огромную клумбу. И теперь там почти круглый год цветут цветы.
Обежал, поклонился я всем милым уголочкам в городке, и поскакали мы к себе в Насакирали. На пятый.
Только взбежали от станции по Леселидзе на горку, ан вываливается медведем из кладбищенской хмури волоокая кепка с метровой щетиной вокруг орлиной сморкалки.
– Дорогои! Знакомимся будем-да! – и, голодно пялясь на мою половину, пихает мне четвертной.
– В честь чего ты навяливаешь мне зелёную селёдку с топлёным маслом?
– Давай-да мнэ твой дэвушка!
Однако этот носорог мандариновый наглюха порядочный. Швырнуть в рожу? А может, поломать спектаклик? В рожу никогда не поздно подать.
С видимой неохотой я взял бумажку, потёр в пальцах.
– Всего-то одна?
– О! Мнэ эщё эст! Во-от!
– Не пойдёть. Дешёво ценишь моё знакомство.
– Аба, мнэ болша нэту!
Я раскинул руки:
– Помочь ничем не могу.
– Пачаму не магу? Пачаму? Ти нэ нада. Твой красиви кошечка дай один час. Любимся будем-да!
Эка повело хачапура на шашлык.
– Раз я вне игры, так к кошечке и обращайся.
Я сунул ему назад его бумажки.
Не берёт. Вылупился быком.
– Нэт… Отдай сама…
– Да нет уж, дорогунька. Отдавай сам. У нас самообслуживание. И потом… Глянем-ка, что тут передавать…
Я смотрю синие двадцатипятирублёвки на свет.
– Ха! Да ты чего фальшивки суёшь? Смотри, кто тут нарисован? Ленин. Тогда и чалься к нему. А вот когда она, – показываю на Валентинку, – будет нарисована, тогда и поговорим…
Я вдвое сложил бумажки, лениво изорвал в мелочь и этой мелочью осыпал его.
– Пачаму моя денга порвал?
– Потому что ты слишком рано спрыгнул с дерева! – Рывком я надёрнул ему кепку на носяру. – Посиди на дереве ещё с тыщу лет, хоть изредка делай дум-дум… Тогда, чичирка, может, что-нибудь да поймёшь. Цвети и пахни, букет Кавказа!
– А чито, букэт нэ чалавэк?
– Пламенный! Дай тебе Бог жену с тремя грудями! Ну, а пока боженька раскачается… Грустно станет, сходи к Дуньке Кулаковой![392] Утешит… Всё, мурзик сдох!
Я покивал ему двумя пальцами, и мы со своей дражайшей отбыли.
Как-то паршиво на душе.
Не ожидал я от себя такой прыти.
Но что же делать?
Загорелый чукча выкупа́ет у тебя на час твою жену, и ты воссодействуй?
– Как ты с этим дикушей крутовато… – упрекает Валентина.
– А с кем миндальничать? Эти выше пояса – в мире животных, ниже пояса – очевидное – невероятное![393]
– И не подозревала, что ты такой у меня петух! – выговаривает моя женьшениха. – А ну стукни этот долбокрут?
– Черныш труслив. Один на один никогда не сунется. А вот стая на одного, не задумываясь, налетит. Мы, грузины, народ горячий, семеро одного не боимся! А чего мне, русскому, бояться таких семерых?!
– То-то, гляжу, такой ты смельчуга.
– В школу ездил – кучкой кавказня налетала. А встретишь кого из них одного – сразу дрожемент в ногах и дристаным зайцем ускакивает прочь!.. А ты… А ты чего лыбилась при джорджике?
– Ласковое слово и кошке приятно.
– Ну не дурилка картонная? Ой… Будет этот джорджик в гробу… Одним добрым словком обогрей – вскочит и запляшет!
Из пролетавших мимо машин всё живое обомлело пялилось на моё сокровище, шагавшее рядом со мной. Конечно, раз есть на что глянуть, кто ж отвернётся? Да в этих кавказских джунглях?



