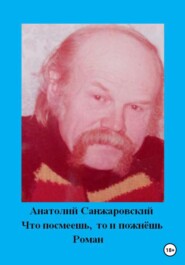 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
Митрофан поплотней высунулся из окна машины, заговорил тише – не слышь ездоки:
– Так этот пуп земли знаешь, какую шишулю в Каменке отколол?.. К нему на приём пришла одна школярка из хуторка Голопузовки. Экий свеженький батончик…[337] У пупика и отвернуло башню.[338] Разбежался римским корпусом рачком в снегу,[339] якорь тебя! Возжелал посадить смазлявочку на свой руководящий советский столик и огульнуть… покрыть отеческим благословением… А девашенция росточком под потолочек, кувалдой-кулачком кэ-эк всадит ему под дыхало, так у пупа земли чуть пупок не развязался. Он с копыток хлоп на пол. На отдых заслужённай. Еле очухался. А тут через неделю мать той бесовочки вышла из больницы и тут же побежала к этому предрику на приём. Дюже он им со своим бемолем[340] понравился. Да побежала не одна, а напару со шкворнем. Как живой остался… Одни Боги знают. Весёлый звон покатился по району. Докатился до области. В облисполкоме топнули ножкой, пообещали забулдону прижать хвост. Уволим за скотское отношение к подрастающему славному советскому поколению! Горбыль и зачесал мохнатую задницу. Побежал по верхам-блатарям. И областной партбомонд вознёс кискадёра! Кошматерно!.. Встал горой, якорь тебя! Нашлась у Горбыля какая-то крутая лапа в обкоме. Не то Хитров, не то Мудров, не то Хитров-Мудров… Мохнату-ущатая лапища… Вынесли дело даже на бюро. И дело назвали как?.. «В защиту верного ленинца!» На бюро лапа орала: «Из-за какой-то голопузовской тли[341] ставить крест на судьбе верного ленинца с сорокалетним партийным стажем!?.. Конечно, товарищи, откровенно скажем, нехорошо, что товарищ Горбылёв споткнулся. Так зато он вперёд подался! Товарищи! В свете сказанного скажу с прямой партийной прямотой. Да нас же и партия, и народ не поймут! Вы только подумайте, какими кадрами мы разбрасываемся!? Товарищи типа Горбылёва – золотой фонд партии! И я не позволю, чтоб этот фонд так бесхозяйственно транжирили. Подумаешь, какое-то там скотское отношение… Да за такое отношение к скоту – честь и хвала товарищу Горбылёву! Лучше к скоту и нельзя относиться! Его район идёт одним из первых в области по надоям! По привесам!»
«А как официально обставлено дело в Каменке?» – спросили.
«Всё на уровне. В соответствующих документах записано: «Тов. Горбылёву вынесен выговор без занесения в учётную карточку за допущенный досадный случай выпивки в чайной вместе с первым секретарём райкома КПСС тов. Сологуб после расширенного районного совещания по случаю успешного завершения зимовки скота в районе». Лебединая песня! Что ещё надо? Товарищ на деле доказал свою высокую профессиональную подготовку в деле решения насущных задач партии! Готов и впредь доказывать! В заявлении так и пишет: «Очень хочу послужить родной власти». Товарищ многоопытный. Может на спине блохи построить замок! Переводом берём товарища Горбылёва из системы советских органов к себе в аппарат обкома КПСС. Пускай возглавляет в отделе сельского хозяйства сектор скотских… э-э-э… животноводческих комплексов!» – «Но у него всего три класса образования…» – несмело подинформировали из задних рядов. Лапа и на это нашла что сказать: «Так гордиться надо! В сталинском политбюро не было ни одного человека с высшим образованием. И не померли. Ещё как коммунизм строили! Был бы один класс или вообще ноль… А то целых три! У дорогого товарища Калинина больше было? А Михал Ваныч не районом рулил. Всесоюзный староста! Так что не мешайте человеку работать. Он делом доказал право на это! Можно сказать, выстрадал это право…» И всё это мне не сорока рассказала, а сам козлоногий Горбыль в своем дорогом обкомовском кабинете. Вот мудота!.. Он, сблёвыш морковный, со смехом мне всё это докладывал. По-свойски! Породнились в Насакирали… А я вот всё круче опасаюсь за свой комплекс… Носился с ним, как белочка больная… А… На решётку поставить такое стадо… Это ж оставлю я коров без ног… Погибнет стадо, якорь тебя! А спрос с меня, не с того кефир-бруевича Горбылюхи с его бемолем. Ему за семьдесят. Этот белокурва[342] в любую минуту может сойти на берег.[343] Всё! Он пенс[344] в законе. Каких песен ждать от этого пенсяра?[345] А мне-то что делать? Ты понимаешь?!
– Не понимаю. О коровках ты печёшься… Прямо мычать хочется… А ты б ещё так думал про… Ты, плоскостопый марабу, в Ольшанке… был?..
Выжал я это конфузливо.
Пустым мне виделось затеять в задний след жёсткий разговор про Ольшанку. В то же время распирало посмотреть ему в глаза, когда он будет обелять себя. И внутренне я как-то ненадёжно немного обрадовался самому себе, что горячий этот вопрос, терзавший меня во все гнилушанские дни, я всё-таки задал. Это была маковая победка над собой.
Митрофан сморенно уронил руки на колесо руля, обвитое цветной плёнкой.
– Чего не было, того не было, – с детским простодушием хохотнул он. – Сознаюсь как на духу… Без изгибов… На дню по сотне раз пробрызгивал мимо Ольшанки… А чтоб зайти… Такого не было, врать не хочу. И всё…
Помолчав, он поднял голос:
– И все дела! Крутят бедную головушку!
Он длинно и шумно вздохнул и, сдержанно выдыхая, пыхкая полными лоснящимися губами, выставил защитительное:
– Всё в жизни си-ирк! Мы с тобой из одних ворот выскочили. А глянь, как мы разно сляпаны. Да как же нам быть одинакову, на одну колодку, если даже на одной руке пальцы и те не уровнены? Ты из-за девятой земли прикатил! А я от матери через улицу и не мог к ней выдраться. Тебе что! Ты свободный художник! Работуха – пупок не сорвёшь. Знай точно держи нос по партветерочку… Не забывкивай свивать даже всякое виляние хвостом и всякий чих Муму с последними историцкими решениями съездюков партии!.. Да визжи поросяче: уря-я-я-а-а!.. уря-я-я-я-я-а-а!..
Митрофан обречённо уставился на небо.
– Твой партветерочек меня не колышет, – ответил я. – Если помнишь, я пеленал фельетоны.
– А-а… Ты, бодастый, по другому ведомству… Ты у нас держишь нос по добру. Узкая специализация. Как фельетон – получай зло по мусалам! Понимаю, – он кисло усмехнулся, – тебя только греет высокая доброта к людям…
– А разве иначе стоило околачиваться в газете?
– Добреньким жизнь не отживёшь… У тебя в хозяйстве одна пишущая машинка да с пяток мух на кухне и то лишь в жаркое лето.
– И в жару мух не держим.
– Тем легче тебе. А тут!.. Что сравнивать несравнимое? И потом… Ну, будь мать плохая, тогда ещё… А то ж, – хмуро наставился на Люду, жавшуюся к Глебу, – раз эта обормотка своего дома не знает, значит, отирает у бабки углы. Значит, бабка уже вернулась. Всё в порядчике! Не понимаю, о чём речь? Бабка у нас крепче железа. Нас ещё с тобой перебéгает. Это ж не бабка… Мотор! «Жигулёнок» повышенной проходимости, якорь тебя!
Лиза, что широко, чинно разгнездилась, будто квочка на яйцах, подала сытый голос из-за спины Митрофана:
– Бедная баба Поля! Пока лежала в больнице – королевствовала. Отдыхала от внучек. А выписали из больницы… Кончился отпуск! Ишь, эта оглоедка, – смерила Люду с ног до головы чужими глазами, – днюет и ночует у неё. Всю душу, поди, бабке измозолила!
– У бабушки слаще спится, у бабушки слаще естся, – смягчая разговор, позевал в кулак Митрофан. – И всёшки великая штука бегающая бабка. Всех трёх девок выходила! Нам с мадамкой, – сонно пожмурился на Лизавету, – самая малость перепала в их воспитании. Наше дело, – толсто хохотнул, – наше дело слепить тело, а там бабка душу вставит… Амбец! Не я буду, сегодня в вечер нагряну. Уж проведаю, так проведаю. Надеюсь, Глеб, пузырёчек сыщется, и мы с тобой клюнем сюда, – прищёлкнул по горлу, – за каждый сучочек в заборе.
– Конечно, на халяву и уксус сладкий, – подпустил с сольцой Глеб.
– Насчёт халявы можно и помолчать… Просто я такой. Я добруха… Пью, пью за чужое здоровье, – со смехом махнул Митрофан рукой, – что и своё потерял… Ну, панове, разрешите откланяться. Труба зовёт. Не на хутор еду бабочек ловить… Везу свой матриархат в область на срочную экскурсию по магазинам. Лизке отложили шубу. Звонила Лика, наша госпожа старшуня, надо забрать. Этой… – Митрофан замялся, указывая на Ляльку, сидевшую сзади рядом с матерью, – эта помешалась на серёжках, на каких-то кольцах…
Впереди вальяжно полулежала худая, плохо кормлёная подмолодка лет двенадцати. Это была Светочка по кличке Хулиганита, достославная Лялькина подружка из голубой гнилушанской знати.
Заслышав о покупках, она лениво, из милости чуть приподняла рукав каракулевой шубки, потукала долгим, фиолетово крашенным коготком по браслету из золотых колечек на запястье:
– Такие колечки сегодня купят Ляльке. Клэ! Мечтяк!.. Я консультирую…
– Дать совет, – сказал я Светочке, – дело тебе доступное, поскольку бесплатное. Но ты, Лялька, за какие шиши ухватишь эти браслетки? Ты заработала?
– С избытком! – с саркастическим укором фыркнула Лялька. – Да как же вы, дядя, далеко отстали от нашей прекрасной действительности! Да знаете ли вы, что в Гнилуше сознательные, передовые марксы платят за отметки?! За пятёрку – двадцать пять копеек. За четвёрку – двадцать. За трёху – пятнадцать. А лебедь ни тинь-тилили. Ни фига не стоит. Задарма. А кол – ремня! Так что расторопные девчонки имеют свою монету.
Вон оно как! Чёткая система материальной и моральной заинтересованности.
В мои годы из этого меню только ремень был доступен, и тот символический. Дальше горячего посула дело никогда не забегало.
– Слышь, – кивнул Глеб Митрофану, – возьми его. – Глеб положил мне руку на плечо. – Вам по пути. Светку пересади назад.
– А понравится это Светочке? – Скользкая, вязкая улыбчонка стекла с Митрофанова лица.
– Светочке это не понравится, – капризом налились губы Светочки.
Глеб мне шепнул, что эта Светочка – дочуня председателя райпо. Эко Митрофанушка перед ней хвост пушит!
Я посмотрел на Лизавету и Ляльку.
Они даже не повернули ко мне своих лиц. Остекленелые глаза насильственно таращились на падавшую вниз дорогу.
Понял я, не ехать нам вместе, хоть и по пути.
Я и не набиваюсь. Доберусь рейсовым.
– Я что, – мямлил Митрофан, смотря в сторону, – я б со всей дорогой душой. Да тачка, ёлики-палики, под завязку набита… Ну, давай, – обмякло понёс он мне руку.
– Давай, – неопределенно, размыто ответил я, но руки не подал, и мы все трое, Глеб, Люда, я, медленно поплелись к автобусу.
Краем глаза я видел, как Лялька, высунувшись из окошка проезжавшей машины и корча Люде рожу, прислонила к виску палец. Покрутила.
Люда ответила тем же.
Сестрички обменялись любезностями.
– Я куплю альбомчик Клавки Черепицыной![346] – крикнула Лялька. – А вечером мы пойдём на концерт «В морду током»![347]
– И пускай вас стукнет! – крикнула вдогон Люда.
– У меня такое чувство, – тихо проговорил Глеб вслед чёрно уходившей «Волге», – что у него сердце вынул колхоз, растолок. Такие в нашей жизни преуспевают…
Какое-то время мы шли молча.
– Дядя! – Лютик потянула меня книзу за палец. – Вы мне говорили, почему я не рисую папку и мамку. За всю времю я нарисовала их всегошки один раз. Ещё когда Вы приехали, ещё сначала. Рисунок я никому не показывала… Я подарю Вам этот рисунок.
Девочка на ходу вырвала из блокнота лист, сложила вдвое, отдала мне:
– Но вы только не смотрите сейчас.
– А если я не всё пойму в нём?
– Тогда смотрите.
Рисунок меня озадачил.
На первые глаза, рисунок как рисунок. Родители, похожие на роботов, вели за руку девочку. Весёлая девочка шла вприпрыжку.
А сзади, на втором плане, была видна ещё одна девочка, совсем кроха, худенькая. Маленькая девочка плакала.
В чём здесь соль?
Почему одна пропадает со смеху, а вторая слезой слезу погоняет?
Наконец я замечаю, что у родителей на всё про всё лишь по одной руке. Может, поэтому и плачет младшая? Тогда чему рада старшая дочка? Да и сами родители, судя по развесёлым лицам, вовсе не делают трагедии из того, что у них по одной руке.
– Знаешь, – честно признался я, – я совсем запутался в твоём рисунке. Распутай меня назад. Расскажи, кто здесь кто.
– Это, – старательно показывает пальчиком, – папка. Это мамка. Ведут Ляльку… Им всем весело… Им всегда весело… А эта… в углу рисунка… сзади… я…
– Отчего же ты плачешь?
– А оттого, что за Лялькой они никогда не видят меня. У них по одной руке, им хватает для Ляльки. Для меня у них никогда не бывает рук…
Вспомнил я тот вечер, когда провожал Митрофаново семейство с пирушки у Глеба. И взаправду Лизавета и Митрофан держали за обе руки Ляльку. А Люда, не удержавшись за материну сетку, набитую картошкой, упала, отстала, и в слезах брела по ночи сзади одна…
6
Из тесноты у кассы Глеб еле вытолпился.
– Ну, добыл на проходящий. Не сидеть ждать. Да… – машет билетом в сторону заляпанного окнастого «Икаруса», что мягко подкатывал к стоянке, – вот он и собственной персоной.
Автобус остановился.
Из прогала двери посыпался народ.
– И место у окна! – продолжал Глеб. – Вот тут. На нём досиживает последние секунды какая-то мамзелино в чёрном.
Тяжёлой нетерпеливой ладонью Глеб с улыбкой хлопнул по стеклу у самого выхода. А ну подымайся! А ну подымайся, живей освобождай место!
На стук оглянулась женщина в чёрном – и она, и мы с Глебом остолбенели.
Это была Мария, Мария Половинкина, та самая Марусинка…
Боже, пути господни неисповедимы.
Я помню Марусинку молоденькой красавицей. Тонка, как травинушка, бела, как сметана… Это было так давно, это было так далеко… Местечко Насакирали близ Батума.
И было тогда и Марусинке и Глебу по восемнадцать.
Сейчас и Мария и Глеб стояли на пятом десятке. Долгие годы помяли обоих, износили. Разбежался в плечах Глеб, хотя и теперь его не выбросишь из десятку. Ещё меньше стала Мария, святая душа на костылях, болезненная и тихая.
Тогда, в Насакирали…
Глеб ушёл в армию, а забеременевшую от него Марусинку силой выжали отец-мать за залётного ухажористого молодца Силаева. Приезжал в гости к одним. Выгостил свою неделю и увёз Марусинку куда-то к своим в Россию.
Сразу из армии Глеб поехал к родителям Марусинки, просил дать её адрес. Хотел забрать свою половинку. Но адреса ему не дали.
Глеб разбежался толкнуться к тем, к кому прилетал погостить Силаев.
Те тоже давно уже уехали из Насакирали.
Ни с чем Глеб и покатил тогда к нам в Каменку. К той поре мы с мамой и Митрофаном уже жили в Каменке. Ехал Глеб через Лиски. И не знал, не ведал, что именно в Лисках жила теперь Мария. И вообще от Лисок до Каменки с полчаса пути. Долгое время они совсем друг подле дружки были, а не знали про то… По одним лискинским улицам ходили. Ведь Глеб раз пятнадцать по полмесяца жил в Лисках, куда приезжал на ежегодные курсы компрессорщиков.
Как-то в новогоднюю ночь перегрелся её благоверный с дружками. Без билетов набились компанией в проходящий поезд. Надумали к его сестре ехать в Сочи купаться.
Но до Сочи далеко показалось ехать, и вывалился он мешком на ходу из вагона в Дон… Проехал всего-то с километр… Он погиб…
Смерть дочери застала Марию в больнице. Телеграммы ей не показывали, боялись, не стало б хуже. И лишь когда немного окрепла, главврач с извинениями отдал-таки целый пук телеграмм. Мария тут же собралась в Гнилушу забрать с чужой стороны Катю… (От Силаева у Марии не было детей.)
…Глеб помертвел, узнав, что Катя Силаева – его родная дочь. И похоронные телеграммы, выходит, слал он Марии, своей Марусинке, вовсе не подозревая, что это была именно его Марусинка… его половинка…
Горько было видеть, как эти уже немолодые, привялые плачущие люди, держась за руки, скользя по грязи и едва не падая, шли по скатывавшейся сверху раскиселенной оттепелью улице. Они шли вверх, а их сносило, они съезжали, при этом безнадёжно взмахивали руками, резко невольно кланяясь то вперёд, то вбок, но, Бог миловал, они ни разу не упали и с каждой минутой всё дальше утягивались-таки вверх по трудной, скользкой дороге, ведущей мимо больницы, мимо завода, мимо нашего дома к кладбищу.
Родители Марии развели её с Глебом.
Зато уже мёртвая дочь Глеба и Марии через долгие годы снова свела эти две половинки.
7
Рядом со мной оказалось место Зои Фёдоровны.
Я обрадовался такому соседству.
Да и сама Зоя Фёдоровна не огорчилась.
Вскоре я знал всё, что не мешало мне знать, а именно: ехала Зоя Фёдоровна в облздрав за новым оборудованием для Ольшанки. Новое оборудование – это так, сбоку напёку. Главное, ехала она на дело Святцева.
Наконец-то столкнуло воз с мёртвой точки. Допекла Зоя Фёдоровна, сама Виринея Гордеевна занялась-таки Святцевым. Говорила с Зоей Фёдоровной по телефону, клялась отозвать Святцева в аспирантуру, а на его место пришлёт нового терапевта.
Предыдущим рейсом отправился на разговор главный врач Веденеев.
Нашим рейсом должен был ехать Святцев.
А его что-то не видно.
– Наверняка прорежется на станции минуту спустя после отхода автобуса или перехватит автобус где-нибудь у прокуратуры, – предположила Зоя Фёдоровна.
Так и вышло.
У прокуратуры, на развилке, автобус стал.
– Вне сомнения, – улыбнулась Зоя Фёдоровна, – это голоснул он. Не выносит очередей у касс, предпочитает совать натуру ездюкам в руки. Оттого его знают все шофёры, останавливаются, где он ни вздумай. О! – качнула в окно взглядом на Святцева, суетился у передней двери.
Автобус набит – руку не воткнёшь.
– Товарисчи унд милые товарки! – хмелько завопил на полную отвёртку крайний на порожках мужичок. – Христом-Богом прошу, разом выдохните на полчеловечка. Впустите женщину с пьяным дитятком!
Судя по тому, как весело перемигивался Святцев с этим в муку пьяным мужичком, были они коротко знакомы.
Святцев хлопнул хваченого мужичка по тощей недвижимости. Так же весело потребовал:
– Жалобней кричи! Не слышат народы гласа беды. Ну не шевелятся!
Наконец Святцев вдёргивает в толпу руку, вдавливается одним плечом и – вываливается из давки.
Обхватив крайних, вкогтившись в них и прочно привалившись к ним верхом, он вжимается-таки в людскую стенку.
Створки двери сошлись неплотно, оставив на воле святцевское плечо.
Автобус двинулся с приоткрытой дверью.
Увидав меня с Зоей Фёдоровной, Святцев как-то смешанно кивнул.
Я тоже ответил кивком, а Зоя Фёдоровна, смутившись отчего-то, виновато наивно показала ему свой тугой кулачок.
В этом жесте пробрызнуло что-то чистое, близкое, понятное только этим двоим и держащее их вместе.
…Девчонки, с кем в одной комнате жила Зоя, – было это ещё в институте, – спрятали в день регистрации её паспорт.
«Не дадим тебе с ним сойтись. Слухи носят, отец у него был дезертир. Да в газете ещё печатали: ради корысти оформил папаня-хват брак уже с покойницей. С сынком такого вязаться – стыдобу на всю жизнь принимать».
Так отговаривали, так отговаривали…
Если б не отговаривали, Зоя, может, ещё и подумала подольше, идти не идти. А коль всем митингом удерживали, так в пику всем подала заявку в загс на самый близкий день. Она считала, что сын за отца не ответчик. И потом, что же по отцу судить о сыне?
Весь курс недолюбливал, не переваривал Александра. Может, только потому Зоя и была с ним пооткровенней, посочувственней. За всех! Отошёл загсовский срок, пропал; записались на новый, и паспорт Зоя отдала на хранение Александру. Уж никакие вертушки ей больше не помешают…
– Слушай сюда, Асмодеич! – толкнул Александра в локоть мужичок под градусами. – Новенький, горячий, ещё шипит-шкварчит. Только со сковородки сковырнул. Один, значит, пришёл к одной. То да, понимаешь, сё. Звонок. Муж. Что делать? «Прыгай с балкона!» – командирничает она. «Восьмой этаж! Убьюсь до смерти!» – жмётся этот перехватчик. «Тогда муж тебя убьет!» Выбора нет. Прыгнул. Летит и молит Бога: «Господи, спаси только! А я гулять брошу, пить брошу, курить брошу!» Упал в сугроб. Отряхивается и говорит: «Летел всего три секунды, а сколько гадостей успело придти в голову. Фу!»
Рассказчик и двое ближних парней сдержанно смеются.
Святцев ржёт, как в лесу. Работает дядя на публику. Причём работает с браком. Пережимает. Всем своим видом, всем своим поведением он твердит: вот мчат меня с дудками на ковёр, а мне всё то трынь-трава, рай на душе, вот я и пропадаю со смеху.
Да смех что-то чужеватый.
Пробавляясь анекдотами с попутчиками, он время от времени кидал на нас с Зоей Фёдоровной нервные взгляды скользом, опасливо, маятно вслушивался в наш разговор.
– После встречи с вами, – вслух рассуждала Зоя Фёдоровна, – я много думала. Да простите мою выспренность о силе газетного слова, но я прибилась к твёрдой мысли, что для меня лично все романы мира не стоят одной вашей статьи «Любовь под следствием».
– Ну-у… Юморок у вас злой…
– Напрасно вы так… Роман – это роман. От романа кому холодно или жарко? А не будь вашей статьи, наверняка не было бы и меня… Я-то свою бабушку распрекрасно знаю! Не было б целой семьи вообще какая есть: мой отец, моя мать, мои младшенькие две сестры, два брата. Сила у статьи несборимая… И с другой стороны заверни… Часто писатели пишут истории своих романов. Но я что-то ни разу не читала, как была написана та или иная журналистская статья. И вообще мне кажется, журналисты, эти верные слуги Правды и Добра, в чём-то недооценены, держатся в тени…
– Ну что прикажете? Нож в зубы и наплясывать лезгинку? Обыкновенные люди. Обыкновенная работа.
– Не скажите. Не скажите…
Тут автобус остановился.
– Эй! Передняя площадка! – сухим, жёлчным голосом пустил в микрофон водитель. – Чего лыбитесь? Ну чего порасчехлили лапшемёты? А ну отвали от дверей! Пускай Сан Саныч весь войдёт. Он же наполовину на улице! Выпадет ещё!
Казалось, автобус качнулся от сильного взрыва хохота.
– Га-га-га, – уныло, передразнивающе произнёс по слогам в микрофон вошедший в распал водитель и выскочил заталкивать остатки Святцева.
Все уставились на переднюю площадку.
Одни искали глазами полицезреть, кто же такой этот легендарный Сан Саныч, которого знает сам областной водитель. Другие, кто был ближе к окнам справа, припали к стёклам, со смехом наблюдая, как водитель рьяно запихивал Святцева, хвост его плаща в приоткрытую дверь.
Я тоже разлил щёку по стеклу, следил за сердитым шофёром. И чем дольше смотрел на него, тем сильней вызревало во мне странное чувство.
«Неужели тот самый? – оторопело думал я. – Неужели?.. Чёрная родинка, на правой мочке уха… Он… Да ведь он и сюда вёз! Сам он ещё заговаривал… Тогда я не узнал. Не до него было…»
– Почему вы переменились в лице? – насторожилась Зоя Фёдоровна. – Что там такое?
Привстав, она тоже посмотрела в окно, куда смотрел я, и, не увидав ничего особенного, пожав плечом, села обратно.
Наконец весь Святцев втолкнут в салон.
Дверцы за ним сошлись плотно, надёжно.
Мы поехали.
Завертелись, зашуршали жернова беззаботного, дорожного разговора.
Пока человек в пути, никакие дела, большие и малые, не смеют достать его. Оттого, кажется, человек в пути добрей, оттого в эти отдохновенные минуты он охотней, с лёгким сердцем вяжется в беседы с незнакомыми.
Я смотрю на радостные лица в этом новеньком, улыбающемся автобусе и думаю про то, что никто и не догадывается, что за леший-красноплеший за рулём.
– А вы знаете, – как бы между прочим говорю я Зое Фёдоровне, – что вы едете вместе с человеком, по злой воле которого вы могли и не родиться? По злой воле которого Александр прежде времени лишился отца?
Зоя Фёдоровна напряжённо заставляет себя улыбнуться.
– Разыгрываете?
– Ничуть. Это ваш непрошеный крёстный из Ряжска, бывший судебный исполнитель, опять же бывший следователь Шаманов… э-э-э… Шиманов. Не без протекции вашего покорного слуги переметнулся в ездуны.
– И эта зла мельница ведёт наш автобус?
– В том-то и весь парадокс.
– Для начала нелишне бы глянуть, что за… А потом… Совсем без ума сделалась… – бледнея, бормочет Зоя Фёдоровна, беда и выручка наша, ясное дитя ряжского скандала.
Острым, тонким, сильным плечом она рассекает толпу, продираясь к зашторенному мятыми, холодно-тёмными занавесками водительскому углу.
От двери за ней устремился Александр.
Конечно, он слышал, что я сказал.
Зачем я вот так спроста вывалил всё это?
Не лучше ли было смолчать?
Что же сейчас будет?
Неожиданно ярко ударило в глаза солнце.
В оконце меж свалок туч впервые пробилось оно за все мои гнилушанские горькие дни.
Не теряя дьявольской скорости, со стоном кренясь, автобус резал излом широкой бетонки.
Дорога забирала, властно заламывала в крутой долгий поворот.
Воскресенье 6 сентября 1981 – четверг 14 апреля 1983
Реквием по советам. Эпилог



