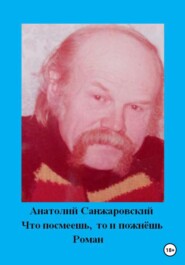 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
– Верно… Смерть честна… Смерть едина, как мать. Хорошая, плохая, а одна родила. Не две матери родили одного. Мы, нищие, сортируем людей. Тот умный, тот глупый… Тот директор, а этот сторож…
– А вышел секунд – смерть, Кузьминишна, принимает и сторожа, и директора… Смерть никем не брезгуе, всех подбирает. В какую щёлку ни залейся – выколупает и заберёт к себе. Вот… Что мы знаем?.. Умирает человек, у него дыхание перехватывает. То нету дыхания, а потом опять дыхнёт. Навроде как из милости смерть разогрешит ще який момент пожить… А ще боюсь, колы опустять в могилу и начнуть засыпать. Земля бух-бух-бух по лицу, по грудям… Я не вынесу этого! Выскочу!..
Кузьминична ласково усмехается.
– Да нет, Владимирна, не выскочите. Знаете, гроб по краям какими гвоздьми прихвачують? Длиньше и толще пальца!
Мама печально и обречённо смотрит на Кузьминичну.
– Была в Москви, – говорит тихо мама, – хóроше сделала, купила младшенькому одеяло зимнее. Это память долгая… Тёплая… Надо щэ Глебу и Митрофану купить по одеялу. А то внечай перекувыркнусь и памяти не оставлю…
– Ну-у! – надувает губы Кузьминична. – Вон Вы как запели! Да нам ли об отходе думать? Раз отпустила Вас Ольшанка, мы ещё с Вами всех воробьёв переживём! Оно и совестно сознаться… Одначе часом я чувствую себя дитём. Впала в детство. Чистю зубы детской пастой! Другой в магáзине не было… Хоть нас уже и давненько укололо под пенсию… Всё одно в наши помятые годы вёрткие бабки, случается, ещё в жёны записываются!
– Ваша правда, – теплея лицом, соглашается мама. – Вон лежала я в Ольшанке с Нюрушкой. Одна эта Нюрушка в хуторке завязла. Придёт волк – напужается! В больницу Нюрушка ехала одна. Зато назад поехала в паре… Спечётся же блинец! При нас привезли одинокого, как кукушка, старчика. Продал даве корову, совсем заходился в понедельник уйти на вечную жизню. Да всё дело вон куда крутнулось… Ну, выкупали его, одели в чистое. Он свою одежину в узелок да в голову. Лежит, квёлый, руки к сердцу собирает… Вывернулся откуда-то из области незваный внук. От пятой курицы десятый цыпленок. Цэй изворотистый чертяка на примусе и пытает деда: «Дедулио, где, в какой кубышке капиталики сокрыл? Давай, старый пим, гони мне на свадьбу». Дед сопел, сопел, промежду ушей всё пускал головорезовы слова, а там и пусти с ветерком: «Ах ты, кобелина пёстроглазый! Моих денег восхотел? В поле, выжига ты восемьдесят четвёртой пробы, в поле мои деньги!»
– О-хо-хоеньки, – горестно сникла Кузьминична. – Зараз на старых людей гоненье. Про стариков только и вспоминают, когда что да ни будь надо. Призвали в город в гости – набивай в сумяку курей, гусей, сала. Не нас – наши сумки ждут!
– Не скажить, Кузьминишна. Не везде под одну шерсть. Не везде. В каждом сарае свои блохи…
– Может, и так. Не спорю… Чем там с дедом кончилось?
– А тем, что ушёл понедельник, а дедок живой. Он же в понедельник разбежался помирать! День ото дня дедку… Сегодня лучше… Не как вчера… Приискал себе под пару мою Нюрушку…
И час, и второй согласно льётся беседа.
Обстоятельно, до блеска отмыты все гнилушанские истории.
Подружки уже устали одна от одной, посоловели, но разойтись выше их сил.
Наконец Кузьминична, открытая душа, смято поглядывая в окно на предвечерний двор, сетует:
– Такой день маленький, такой день маленький… В два двора сходишь и больше никуда не сходишь. Туда-сюда и день пропал, дня нету… Мне ж ещё к свахе надо. Хворает… Позавчера не дошла до неё, так вчера в пух разбранила. Чего, говорит, не приходила? Чудок не померла, да чтой-то осечка вышла. Смотри, говорит, а то примру и отделаюсь, а ты и не узнаешь. Надо зайти…
– Ну, зайдить, зайдить, – благостно разрешает мама.
Кузьминична сосредоточенно застёгивает, забирает свою плюшку на верхние пуговицы. Не в спехе оглаживает, одавливает её.
– Надо идти. Время. Куры уже на насест летят… Ладком мы с Вами посидели. Надо и честь знать. Я своему гостю, брату из Киева, – летом вот наезжал, – сказанула: хорошо, что приехал, да спасибо, что ненадолго. А сама…
Минут ещё сколько старухи толкутся у двери. Отоптали все сени, Никак не расстанутся.
– Э-э-э! – спохватывается Кузьминична. – Чуть не забыла… Та же сваха с полмесяца назад звала меня на печёнку. Я сегодня-завтра, сегодня-завтра… Приползаю, а сваха и говорит: нетуньки печёнки. Я так удивилась и спрашиваю: а что, баран был без печёнки? Быть-то была, да умолотили… Без моей подмоги…
В конце концов Кузьминична уходит.
Не дойдя и до угла дома, не бегом ли возвращается.
– Оё, чёртова простокваша! – на весь двор сокрушается. – Ить воистину, худая голова – плохой товар! Сколь цынбалы разводила, да про наглавное, Владимирна, так и не доложила!
В сенцах Кузьминична тесно припала к легко выскочившей навстречу маме, зачастила вшёпот:
– Про Катю про покойницу… В мертвецкую снесли её в больничном халате… Ага-а…На новое утро смотрят… Халат пропал, и лежит Катя во всём белом невестином убранье. В том убранье и схоронили. Я от себя, от своей воли положила с нею её последние хризантемы… Хризантемы она люби-и-ила не сказать как…
Мама поднимает на Кузьминичну оробелые глаза.
– Кто же, Кузьминишна, её переодевал в свои покупки?
– А кабы знатьё, разве б я умолчала? До точности никто ничего не знает. Бабы по Гнилуше таскают гибель всего разного. Ни в какую гору не складёшь. Одни твердят, божье то дело. Другие Бога не трогают. Сходятся на том, что это какой-то божий человек сделал. А кто именно?
Старухи в крайней озадаченности молчат.
4
Кузьминичны уже не было у нас, когда пришёл Глеб.
Безмолвный, зачужелый.
Глебу нужно на отчетно-выборное собрание.
Мама забеспокоилась.
– Надень, – на вешалке подаёт из гардероба белую рубаху. – А то в тёмной нехорошо.
– Перетопчутся, – еле слышно без зла буркнул Глеб.
– Ну надень красну. Чего висит?
– А Вы хотите, купил, сразу и носи? Пусть повесит.
– У тебя их тыща.
– О чём спор? – возражает Глеб и задумывается. – И перед кем там теперь разряжаться? Что они, не видели меня?
– Ранишь ты так не говорив. Последние два месяца на кажну смену бежал в свежей рубахе…
Глеб горестно покивал головой.
– Так то раньше…
– Да, хлопче, тебя в разговоре не перешибёшь, – сердится мама и набавляет в голос напусной строгости: – Смотри! Не ругайся там. Во вздорах пути не бывает.
– А чего мне ругаться? – блёкло спрашивает Глеб. – Это пускай они ругаются, чтоб поскорей турнули меня из председателей. Знаете, ма, так не хочется идти… Может, Вы б пошли за меня отчитались?
– За свой борщ перед тобой я всегда на пятёрку отчитаюсь. А шо я понимаю в твоём деле? – серьёзно оправдывается мама.
Глеб вздыхает. Как-то побито перебирая ногами, неуверенно, будто под ним закачался пол, медленно убредает.
И уже с той самой минуты, когда он, может, ещё не взял за угол, мама уцеливается на будильник. Сначала смотрит молча, потом, спустя с час, накатывается потихоньку поварчивать на затянувшееся профсоюзное собрание.
– Ты дывысь, – тычет кривым пальцем в будильник на полочке над умывальником, – пошёл в четыре. Уже семь! А его всё нема и нема. То вжэ не собранье, а пьянка. Повод к ним в любом случае подбежит. Выберут его… Льют за него. Выбрали другого… Шо ж, обмывають того добела… Водка делает человека медведем…
Мама навела блинцов.
Налил я первый блинец. Толстоватый.
– Не! – осудительно замахала на меня мама руками. – Налил горой! Толстуха! Не пойдёт!
– Не пойдёт, так поедет. Такой блинец в желудок положишь, сразу сытость почувствуешь.
Второй блинец у меня уже потоньше. Поприличней, с дырочками.
– Ну а цэй хоть на базарь неси! – подхваливает мамушка. – Ты, я погляжу, повар у нас… Тебе и цены не сложишь!
– А Вы сами разве плохо пекёте? – спрашивает маму Люда. – Это моя мамка не может пекти блинцы. Спекёт – ни одной дырочки. Чижолый, как из железа. А у Вас… Дырявый, как решето. Так весь и светится! Вы и хлеб пекёте с дырками. Рука лезет, будто мышка в норе сидела. Большие носики! Дышит хорошо Ваш хлебушка!
– Ох, Людаш! – потрепала мама девочку по плечику. – Ты ж и хитрюшка! Знаешь, на какой козе к бабушке подъехать.
– Ничего я не подъезжаю. Просто говорю как есть.
Мама сидит любуется, как я пеку.
Люда подметает блинец за блинцом.
У каждого занятие по душе.
– Сынок, – говорит мама, – летом, кажется, ты справней был.
– То я, ма, сейчас постригся…
– Бог даст, – мечтательно продолжает она, – доживём до нового лета. Наезжайте. Може, не будет дождей. Помидоры наспеют. А то в это лето ну совсемка дожди нас закупали. Редко колы сонце чуть выяснится… А то всё дождь да дождь. Помидоры почернели. Вроде кто смолой намазал. Это надо такому случиться? Ни один помидор не вызрел… Валя… Валя у тебе гарна. Не то шо у соседа жинка. Сам справный, высокий, а взяв худу та погану. Повёз невесту родителям напоказ, родители и зажурились. Кажуть: «Что ж ты, Гармонь-Мать, не мог в лесе палки найтить?» Гармонь-Мать – это у парня такая присказка. У нас его все и зовут так: Гармонь-Мать. Надо брать кость по себе… Валя гарно готовит, чисто. На отпуск едьте к нам. Хай Валя берёт свой фартук. Мы её на весь отпуск оформим главным поваром. Она у тебя проста, як с Гнилуши. Где живу, где работаю… Мы не слыхали от неё таких вертихушек. То наедуть с городов, понакрасются, кудри наведут, выламываются: я оттуда! я оттуда! А эта проста, как крестьянка. Не ошибся ты, сынок, в жене… Не ошиблась и я в своих сынах. Спасибо, сынок, шо приихав, поддержал тёплыми руками. Не приедь ты, я, может статься, и не поднялась бы вовсе… А если б и поднялась, то, чую, ой и нескоро. Побыл ты у меня в Ольшанке первый раз, пошёл, а я лежу та думаю. Настёгивать себя стала. Шо ж ты, говорю себе, лежишь, як коровя? Да где такое видано, шоб у меня дома гостюшка сын був, а я по больницам отлёживалась?! Не-е… Надо отсюда выбиваться… Была я тогда или в самом деле такая плохая или придурювалась… Лежу, хоть кипятком обливай, нипочём не встану. И пошла я над собой сильничать. Как утро, подняться не могу, а я таки подымаю себя. С палочкой норовлю доползти до врачихиной комнатёшки. Доползти да постоять там возле. Нехай почаще видит меня на ногах врачица, поскорей, глядишь, и расчётец поступится дать. Поскорей выпишет. Вроде всё это, кажется, и помогло. Спасибо тебе, сынок. Вот, сынок, пока жива, доезжай днём и ночью. Всегда тёплыми руками встрену…
Стаканчики в серванте предупредительно, жалобно взвенели.
Вошёл Глеб.
– Ого! Да у нас запахло домом! – шумно потянул он крупными ноздрями блинный дух. – Вот это я понимаю!! Наша мамушка снова дома!
Глеб нетвёрдо подошёл к столу, поднёс обливную чашку с блинцами к самому лицу. Неистово потянул в себя крутой блинный дух.
– Вот это и есть жизнь! – рявкнул, возвращая чашку на стол.
– Это вы что же, – указала мама на будильник, – до восьми часов голоса рвали?
Закрыв глаза, Глеб пьяно помотал головой.
– Голосовали, ма! Ой и голосовали ж! В стельку!
– А я вся так выпужалась. Час поздний. Моего генерала Топтыгина всё нэма. Ну? Шо ты там выголосовал?
– Отстегнули мне четыреста экс-председательских граммулечек, и я перешёл на жёсткий режим. Больше – рак меня заешь! – ша!
Мама с сарказмом кивнула:
– Зарекалась кобыла оглобли бить… Выгнали, шо ли? Ты хоть отчитался? Не должен?
– За что?
– Да мало ли за шо… Выходит, непутящой, березовый ты председатель… Кого ж ты там огневил? Кто ж против тянул руки? Все?
Глеб поднял на маму медленные, унылые глаза.
Ответил с холодно-насмешливым вызовом:
– Ну… Погнали за неправильный подход и обращение с администрацией. Ну и что? Что это Вас так волнует?
Мама смутилась.
– Не волнует… Я так…
Говорила она неправду. Ей было приятно, что её сын был на видах у всей Гнилуши. Нравилось гладить ему белые рубашки, особенно когда он шёл на собрание.
Глеб иногда ворчал, что вот за так, за спасибо, приходится бегать на эти заседания, приходится сшибаться лбом с администрацией. Но он никогда не давал в обиду простого работягу, если тот был прав, и всегда выручал. После обычно с налётом иронии рассказывал об этом дома и маме радостно было сознавать, что вот если б не Глеб, человека ни за что ни про что уволили б, а вот её Глеб поднялся на защиту, заткнул чужую беду.
Втайне она гордилась им.
Только ему об этом не говорила, боясь сглазу.
И вот больше не ходить Глебу на заседания. Больше не гладить белые рубахи к тем заседаниям.
Нежданной этой перемене она никак не могла приставить ума.
– Шо ж… Ты копаешься в людских напастях, як жук, всё копаешься, а тебя ще и молотять? – потерянно спросила.
Убитый вид матери пронял Глеба.
Он обнял её за плечи. Весело и сдержанно тряхнул.
– Ма! Да кто меня тронет!? Вы уже и поверили… Я сам бросил! Не удивляйтесь. Вот взял и бросил… Я не робот заводной. Мне мало просто быть нужным массе. Я хочу, чтоб в той массе был и тот… кто нужен мне. – Глеб понизил голос: – А его… а её уже нету…
Мама насторожилась. Потянулась что-то спросить, и Глеб, сообразив, что проговорился, обогнал её вопрос, заговорил торопливо, заслоняя выпавшее невзначайку.
– Я человек прямого глаза. Вижу что не так, не смолчу. За все четыре года, покуда я казаковал в председателях, я не дал ни одного согласия на увольнение. А сегодня, выпуская из рук праведные профсоюзные вожжи, за час до отчёта, предложил уволить Бывай Здорова.
– Кто это? – перебил я.
– А! Здоровцев. Мой сменщик. Единомысленничек… Ты этого кологадского жука видел… На приветствие он всякому отвечает одно: бывай здоров! Его и прозвали: Бывай Здоров. Отрастил будку метр на метр и думает, что всё ему дозволено, всё ему можно, тащи, что рука загребла. У государства, мол, всего выше глаз. Одна фрейлина старого мерина приловчилась сахар через проходную проносить. Подвяжет в низу живота, поближе к демаркационной линии…[332] Там какие-то секретные ёмкости, что ли… Ни одному вахтёру не насмелиться пощупать там… Этот бугай масла бидончик прёт… Народные умельцы… Обоих настоял выжать. Надо когда-нибудь всерьёз браться за воровство на производстве. Иначе дай послабку, трубу заводскую сопрут! Вывернут вместе с фундаментом котельной! Только подраспусти… Так он день будет считать потерянным, если ничего не утянул с завода. Прямо с горя заболеет…
– Что-то ты лишь под занавес, за час до схода со сцены, раздухарился? – поддел я.
– Просто раньше несуны крупно не разбойничали, только и всего, – пожал Глеб плечами. – Не в масть пришлась начальству моя активность, расценило едва ли не как неправильный подход к администрации: в неловкое положение нас загоняешь, эдак мы пробросаемся специалистами! Видал, кто специалисты?
Глеба повело.
Не останови, до утра протарахтит о своих заводских болячках, и я шутя (шутка – самый надёжный и деятельный посланник в пикантных делах) поинтересовался, не горит ли он желанием отвалить мне мой мышиный гонорар.
– Потухли во мне эти желанья. – Глеб широко перечеркнул перед собой воздух. – Сарай, мыши, мышеловка, приманка – всё моё, я и плати? Получается, у Фили пили, Филю и побили. – В зрачках у Глеба качнулись весёлые бесенята. – Дело выворачивается так, что с тебя надо брать. Во-первых, ты вёл ловлю блох… мышей, не соблюдая элементарнейшую технику безопасности. И результат? Пострадал не тот, кто должен был пострадать.
– А какую тут безопасность придумаешь? Разве что посадить на крючок поверх колбасы записку: «Колбаса есть, да не про вашу кошачью честь»? Всё равно безграмотная чернушка не прочла б.
– Дурной знак валить всё на невежу киску. Не лучше ли мышеловку приладить в клетке, куда могли б прокрасться лишь мыши?
– И стрелками указать, где искать колбасу?
– И без стрелок тогда б не потерпел аварию наш агент, наш, можно сказать, пламенный товарищ по борьбе. Ты грубо сыграл на слабости кошки. А кто из нас без слабостей?.. Но вернёмся к оплате. Чернушка умчала мышеловку бог весть куда. Никакими собаками не сыщешь. Следовательно, из твоих червонцев я вынужден отозвать за мышеловку восемнадцать копеек. Дальше. Пострадавшей оказалась приблудная Мурка, почти удочерённая любимица всего нашего двора. Весь двор, восемь семей, со мной не разговаривают. Нас помирит лишь здоровье Мурки. Я взялся её выходить. Чтобы не докучали ей мыши, я не вселил её в сарай, а на подушечке с вышитой розой пристроил в тёплой котельной. Я ей молочко, я ей колбаску, я ей прочий нежный харч. Всё это чего-то да стоит. Иногда Мурка слегка проминается. Ходить она будет. Но пожелает ли ловить мышей? Большой вопрос. И пока она лежит, из чего оплачивать ей больничный? Не платить я не могу. Комитет бродячих кошек изничтожит меня. Ясно, обе твои десятульки стáют ей на больничный. Даже не хватит. Так откуда ещё и тебе кроить? Сработал ты, дорогуша, с больши-и-им минусом!
Мама, то и дело порывавшаяся перебить Глебову болтовню, недовольно поморщилась. В обиде натянула губы.
– Напился в поле… И лопоче, и лопоче в пустой след… А ну, хлопче, бросай гору на лыки драть. Ступай лучше заруби петушаку с перебитой ногой. Петушака той справный, гарный. Там як нарисованный! Хвост дыбарём… Да парочку курочек. Маленьких, як голуби, не трогай. Выбирай справных, важких. Шоб сала на них було, як на кабане. Наш гостюшка, – мама глянула на меня, – утром отбывает. Возьмёт с собой туда.
Удивлённый Глеб, мякло вразброс вскинув руки, глухо прищёлкнул длинными, тонко раздавленными в тяжёлой работе пальцами:
– Вот так компот! Вот попробуй в такой обстановушке вырвись из аликов. Я ж, признанный мастер спирта по литрболу,[333] полчаса назад клялся, что больше ни-ни! Перехожу на жёсткий режим и на! Какие ж проводины без… Обязательно придётся принять! Чтоб всем весело ехалось!
Пузастый, тонкобокий стакан на столе притянул его нетвёрдый взор. Стакан был пустой.
– Природа не любит пустоты… Закон… Нальёшь, врежешь… Крякнешь, как гусь… Хор-р-рошо!
5
Нет ничего гнетущее расставания с мамой…
Каждый раз я прощаюсь с мамой дома, и каждый раз она не удерживается не потянуться следом, шепча то ли просительно, то ли оправдательно:
– Проводю сыночка хоть на уголочек…
Я беру её за руку.
Тихо глажу верх её руки и бреду как на ватных ногах. Ком набухает в горле…
Уже позади наш дом. Позади завод, больница. Вот уже и развилка дорог. До остановки меньше половины.
Мама сломленно смотрит на маячивших впереди в отдальке Глеба с чемоданом на плече и Люду с альбомчиком под мышкой. Глеб и Люда провожают меня до автобуса.
– Ну, сынок… – щемливо улыбается она, и мы, целуясь, прощаемся снова.
Объятия наши размыкаются, и я не то выпускаю её из своих рук, не то выталкиваю мягко, не поднимая глаз и бросаясь прочь. Давят слёзы, стыдно поднять голову…
В этом стремительном, жгущем душу уходе вприбежку есть что-то подлое, что-то преступное, что-то вроде грешного побега от матери.
Недостаёт духу оглянуться.
Не смотрю я назад, но знаю: обернись, неминуче увижу зыбкое лицо в отуманенных, кротких слезах, коротко вскинутую измученную руку.
Приподнятая рука не движется, лишь пальцы нетвёрдо, жертвенно чуть сжимаются и снова разжимаются, как бы покорливо призывая воротиться в дом отчий, как бы к себе загребая тебя, твою душу.
Отойдя несколько шагов, я таки скашиваю глаза и вижу всё это.
Во мне всё леденеет.
На миг я вкопанно останавливаюсь то ли чтоб всё же вернуться, то ли чтоб, собравшись с духом, двинуться сломя голову дальше, и вопреки своему чистому желанию вернуться я ровней, спокойней беру к видным впереди брату и племяннице, покидая маму одну у развилки посреди безмолвной, пустой улицы, посреди ясного, холодного утра – посреди России.
Близ автобусной станции нас – Глеба, Люду, меня – нагнал Митрофан на чёрной «Волге».
– Тпру-у-у! – рисуясь голосом, нарочито громко тянет Митрофан, останавливая машину. – Ну что, брателло, уже шнуруешь отсюда?
– Отчаливаю…
– Ну! Держи петушка!
Мне не очень-то хочется подавать ему руку. Ругнув себя за слюнтяйскую уступчивость, подаю. А он тем временем отпахнув дверцу, протягивает навстречу угрожающий, поросший рыжей щетиной раскисший кулак, протягивает так стремительно и рьяно, что, кажется, его подожгло садануть меня в живот.
В панике я отпрядываю.
Это вызывает у него приступ восторга. И когда кулак поднесён уже вплотную, Митрофан резко разбрасывает в стороны клешнятые пальцы, растопыренной пятернёй ловит мою руку.
– Эхушки! – сожалеюще роняет Митрофан. – Эсколько ты пробыл, а мы так и разу не посидели толком, не перекинули по стограмидзе. Я готов с тобой принимать градусы за здоровье каждого листика на дереве… Да… Получилась у нас с тобой, как говорит Людка, разомкнутая любовь. Совсем текучка захлестнула… Тут такой круговорот пошёл… Долгая волынка рассказывать. До всего дойди своей башкой. До чего сам не дошёл – ставь крест! Наконец-то спихнул с плеч этот чёртов комплекс. Опупеоз! Полеживают теперь мои бурёнки в тепле, досматривают летние сны. В районке видал целую полосищу про мой комплекс?
– Не довелось…
– Напрасно. К Глебу ходит районка. Районную прессу надо и почитать, и читать. Между прочим, лично я литературу всю уважаю. Книжку не брошу, пока не заслюню… Смандыхнул с плеч гору, а депрессняк не отпускает… В покой не войду… Тут такой, братуша, горьковатый припев… Смотрю я, дурёка, на этот комплекс, смотрю… Что-то не тое… Полторы тыщи коров под одной крышей, якорь тебя!.. Ну не дурацкая гигантомания? Коровы на решётке ноги ломают… Как я раньше про это не допёр? А ну я всё стадо обезножу?! А корова без ног – труп! Обезножить стадо – потерять стадо… Разве это комплекс, небоскрёб твою мать!? Ско-то-мо-гиль-ник! Вот так фор-бом-брам-реи![334] Неужели полный бесперспективняк?! А столько возились! Столько дудели! Навязали, – кинул он руку вверх, – пристебашки… олухи Неолита Ильича! Строй! Не то партбилет на стол! Охохохоньки… Бермуды, а не комплекс… Бермудно на душе… Чем они там только и думают? Да кому там думать!? – Он с силой хлопнул себя по лбу. – Вспомнил! Всё боялся забыть рассказать эту хохму. Укат! Там из думцов думец – твой папашка!
– Какой ещё папашка? – кисло буркнул я.
– А тот самый… Насакиральский… Сразу после войны все наши соседцы дети бегали на городскую дорогу встречать с войны своих отцов… И ты ходил. И раз привёл собачанского козла. Горбылёва! Папунькой ещё тебе назвался…
– А-а…
– Этот Горбыль ещё до войны уже сидел в номенклатурной обкомовской обойме… Был секретарём в райкоме комсомола… Потом двинули в райком партии… Это было в Старой Криуше, потом в Калаче… После войны он и завейся в свою тёпленькую обойму… Номенклатура – страшное дело! Главное влезть в неё. И там до скончания века будешь кататься в маслице. Что ни вытворяй… Вот у неутыки полное несварение головы. Он крупно напакостил на одном месте… Думаешь, его берут на цугундер? Хер наны![335] Для всенародной видимости устроят головоймойку… Вытащат даже на бюро, сгоряча влепят строгача с занесением, а чаще без занесения в учётную карточку… Чтоб меньше было следов… Всласть покрутят гнилой понт… А дальше? Самая смехотень дальше! Куда этого нерюха запихивают? Потихоньку сплавляют на новое местечко. И чаще с повышением!..
– Стоп, телега! Стоп! – перебил я. – Я вспомнил… Ты говорил, Пендюрина кинули на повышение в область…
– Именно! Кинули вверх!
– А вот новый первый мне сказал, что Пендюрина столкнули на пенсию.
– Уйми звонок и не пори глупизди! В обком наш Пендюрелли шагает! Я не только известный звездочёт коньячных этикеток, но и по совместительству тесть Пендюрину. Мне известно то, что неизвестно твоему новому первому. И со всей ответственностью докладываю тебе. Пендюшкин наш отбывает на областные не-бе-са! Сейчас у него отпуск. Поковыряется в палисадничке с цветульками, посверкает мохнатым задом на Чёрном морюшке и херак прямым рейсом в область! Вот такой расколбас.
– Но новый первый…
– Не слушай сплетни… Их нарочно разносят… Эта такая политика в коммунистических верхах. Районный парпуп[336] наколбасил в Гнилуше. Ему бы дать сапогом под зад, а его тащат вверх. А для низовухи распускают небылицы про пенсию там… Про увольнение… Чтоб те из местных, кто дрочил на него зуб, успокоились и обрадовались слегка. Выжали! Да, выжали. Выжали наверх! Партподданные не дадут в обиду своего самого маленького шишкарёнка. Ты наш. Не переживай. Партия всегда ценит твою ленинскую верность! Партия всегда думает о тебе!.. Я продолжаю про Горбыляку. Вот этот Горбуха тёрся вторым секретарём у Пендюрина. То ли не ужились в одной партберлоге, то ли накурволесил чего с верхом… Вылетел Горбуха из Гнилуши в Каменку. Это повышение. Там и район почти вдвое крупней, и райцентр не село, а посёлок городского типа да ещё при железной дороге. В Каменке Горбыль был при нас уже предриком. Пуп района! Вся власть!



