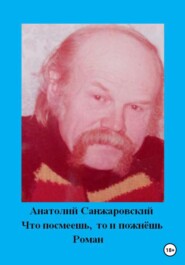 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
– А Святцев, конечно, многоклеточный! – в сердцах подпустил я.
Зоя Фёдоровна мимо пропустила мою подковырку. Продолжала раздумчиво ровным голосом:
– Разложим по полочкам… В Святцеве кошёлка грехов. Резок, несдержан, мнителен, тороплив, в иной момент просто неуправляем. В нём нет собранности… Он не может в горячую минуту взять… слить себя в кулак. Он ругается там, где надо улыбаться. Его не хватает на главное, на внимание к больному… Сплошные пятёрки на экзаменах… От рассказа о том, как надо лечить, до самого лечения перегон большо-ой. И ох трудный… Иногда, может быть, больной наполовину выздоравливает от внимания к нему. А уж всё остальное работа лекарств. Я бывала на приёмах у Святцева, наблюдала его со стороны. Войдёт человек. Святцев так глянет, что бедняга со страху вжимается в дверь. Несчастному кажется, что он попал к следователю, от которого уже не выскочить на волю. Какой уж тут контакт, какая уж тут откровенность! Был и он на моих приёмах. После плевался. А сам, чувствую, завидовал. Всё укорял, ну чего каждому строить глазки, лыбиться до ушей? Не в цирке ж! Да, кабинет терапевта, палата не цирк и всё же… Больному, этому горькому дитю природы, и без того бермудно, тошен свет. А начни и врач подахивать, ещё сильней придавит беда. Но завидь он улыбку, в первое мгновение недоумевает, во второе уже робко цепляется за надежду. Ага!.. Если врач улыбается мне, похоже, не так уж я и плох!
– Значит, ложь во спасение?
Зоя Фёдоровна улыбнулась.
Я не берусь описывать её улыбку. Мне ещё неведомы те слова, которыми можно было бы передать счастье и силу, обаяние и восторг её улыбки. Ни в каких театральных студиях не научат этой улыбке души. С этим счастьем надо родиться.
– От мамы я слышал, – сказал я, – что вас в институт за улыбку приняли. В самом деле?
– Представьте. Я недобрала полбалла. И меня зачислили. После профессор так и говорил: «Авансом, за улыбку взяли. Хорошая улыбка врача возвращает больному веру в себя. Улыбка ему важней самого дорогого лекарства».
Зоя Фёдоровна печально посмотрела на тающее облако, похожее на белого пуделя, и продолжала с какими-то оправдательными нотками в голосе:
– А вообще я стараюсь быть строгой. В конце концов, твержу себе, ты на работе, следи за собой. Но когда я увижу больного, я не могу не улыбнуться. Это посверх моих сил. Для меня каждый больной – это моя мать, это мой отец, это моя бабушка, это, наконец, мой сын. Не могу же я с окаменелым лицом взять сы́ночку на руки… Я же живая…
– А Святцев вот другой.
– Видите… Он у нас хампетентный скоростник. Лошадиными дозами назначает антибиотики. Мол, скорей подымутся. Ему сию минуту подавай счастливый исход. Сколько ему твердила, нельзя ускорить роды, нельзя и задержать. Всё, когда скажет природа! Замахивается он вечно на быстрое лечение, да что-то на долгое сносит. От больших доз близко до беды. Пожалуйста, случай с вашей мамой… А послушай Святцева… Не для себя, для больных старается! Да, он их любит, но любовью диковатой. У него не хватает терпения по всем нормам поднять человека. Ему то ли некогда, то ли лень возиться с ним, и он наваливается на антибиотики, когда можно без них обойтись… Его творемы дорогонько обходятся кой-кому… Сейчас носится, как курица с яйцом, с идеей вечного двигателя в медицине. Ударила в голову фантазия изобрести универсальную таблетку ото всех болей человеческих…
Я слушал Зою Фёдоровну, наверное, до неприличия разинув рот.
Фантазия Святцева мне глянулась.
К ней Святцев пошёл от мысли отца медицины Гиппократа:
«Голод есть болезнь, ибо всё, что приносит человеку тягость, называется болезнью. Какое же лекарство от голода? Очевидно, то, что утоляет голод. Но это делает пища, поэтому в ней заключается лекарство».
Если голод есть болезнь, следовательно, болезнь есть голод какого-то органа. В этой-то лекарственной лепёшечке и должна быть пища для всех недугов.
Ты не знаешь, что у тебя болит. Ты принимаешь эту таблетку, и таблетка, действуя избирательно, сама находит твою болезнь, съедает её. Причем, расходуется лишь та часть таблетки, которая предназначалась именно недугу, а всё остальное в таблетке, невостребованное, чтобы не навредить, не растворяется и само собой уходит из тебя целеньким, словно нечаянно проглоченная вишнёвая косточка.
Святцев спал и видел свою всемогущую таблетку.
Фантазия уже до того закружила его, что говорил он о своих мечтаниях как о чём-то сбывшемся. Торжественно проводим последнего больного и закрываем больницы! Не нужны! Прихлопнем мединституты – на врачей нет спроса!
Святцевские прожекты коробили Зою Фёдоровну.
Может, через сто-двести лет врач и выйдет в тираж. Но вот сейчас трещать? И кто трещит… Ему ли, терапевту, толком не знающему, как и держать скальпель, было оперировать Катю Силаеву? Чем кончилось? Завтра похороны… А не лез бы скоростничок – я сам, я быстрей! – жила б ещё, гляди, Катя. Хирург же рядом был, только позови.
Райздрав мёртво вцепился Святцеву в горло.
– С его характером нельзя практиковать, – вполголоса молвила Зоя Фёдоровна. – Я так прямо и написала в облздрав Виринее Гордеевне, замше. Вы у неё были, поделом шерстили Святцева. Уж союзом-то мы обязательно свалим этого горячего друга-скоростника.
– И вы не очень-то, как погляжу, любите Святцева?
– Я-то как раз, дурочка, и люблю. Иначе была б я ему женой?
Я так и присел.
– Вы – жена Святцева?!
– Я – жена Святцева, – с ласковым достоинством ответила Зоя Фёдоровна. – И потому хочу выпихнуть его из практиков. Для его же пользы… Он с красной корочкой выскочил из института. Оставляли в аспирантуре. Сам набился в село. В глубинку… Пускай откатывается в аспирантуру и химичит на мышах, на кроликах. Пускай опытничает, пускай колдует над новыми препаратами. Там он на своём месте. А здесь заедает чужой век.
– Я что-то не пойму… Если вы жена Святцева… Как же?.. Он в Гнилуше, вы в Ольшанке?
– А! Разругались из-за его дурацкого скоростного лечения, и я ушла на пустовавшее место в Ольшанке. Сняла комнатку и живу…
Зою Фёдоровну мягко перебил короткий, полный, как мешок, весёлоглазый шофёр.
– Зоя Фёдоровна, – шумнул он, – можно, пока вы поговорите, я к знакомым ребятцам на почте наведаюсь?
– О чём речи! Виктор Петрович! – и разрешительно кивнула.
Машина двинулась.
Зоя Фёдоровна запоздало взглянула на часы. Смешалась.
– Что же я наделала? Зачем отпустила? Через двадцать минут в «Клубе путешественников» отец выступает!
– Посмóтрите у нас. А пока до телевизора есть время, согреетесь с дороги стаканом чая.
От чая она отказалась, и, едва вошли мы в дом, прилипла к рамке с нашими карточками на стене.
Мама толкнула меня в локоть, взглядом велела отойти в угол.
Я отошёл.
– Ты, – в панике зашептала она, – чего намолотыв про тильвизор? Яке там смотренье? Вин у нас, чёртяка, года три вжэ на пензии! Ничо не показуе, ничо не россказуе!
Я неверяще улыбнулся.
Мама осерчала:
– Кажу ж, не робэ!
– Да ну почему не работает? Чего тогда стоит? – Я с огнём ткнул в телевизор – горкой торчал на громоздком отёрханном радиоприёмнике. – Радиоприемник не работает. Телевизор не работает. На что держать?
– А ты Глебку спытай. Грошей на починку ему жалко. Покупать новый ще жалкишь! Ото и настоновыв однэ на однэ. Для шикозного виду. Одна тилькы и слава, шо сыто живэмо… А… Я б и сама колы подывылась…
– Поклевали б носом перед телевизором, – уточнил я.
– А хоть и поклевать, так всё ж перед тильвизором. А то…
Мама виновато подошла к Зое Фёдоровне и покаянно взмолилась:
– Зоя Вы наша Фёдоровна… Вы уж, пожалуйста, не держите на нас сердца. – С чужими мама говорила по-городскому, стараясь ясно произносить каждое слово. Это только со своими она переламывала слова на хохлячий лад. – Он, – качнулась в мою сторону, – сманул Вас смотреть, а Вы ж у нас ничего не высмотрите. Наш тельвизор уже три года бастует, ничего не хочет показывать.
Крутой румянец поджёг тугие щёки у Зои Фёдоровны.
– Как же?.. – совсем сникла она. – Отец не каждый день выступает по московскому телевидению… Что придумать?
– Что в наших скромных силах, – играя голосом и с рисовкой включая телевизор, ответил я. Повело хвастунишку на кокетство.
Мама язвительно глянула на меня.
– От так я! Герой! Нажав на кнопку… А кто показуваты будэ?
Тут засветился экран.
– Ты дывысь! – Мама в печальном озарении сложила руки на груди. – Як зломався, Глеб, наш Комиссар, его и не трогав. Разве в праздник колы нажмэ на усякий случай. Нажмэ, посмотрэ на тэмно стекло та и пьяным кулачиной трах по верху… Нам три года нипочём не хотив показуваты! А туточки тоби подай гостям гостинчик! О! Он и дядько в пусти ворота не попав… Сам вскочив…
Показывали футбол.
Несколько секунд мама с нарастающим недоверием всматривалась в экран и в растерянности отшатнулась.
– Та чи вин сказывся! – отстранённо подумала вслух. – Був простый… Невжель с довгой мовчанки став соображаты по-цветному? Не-е… Цэ дило трэба розжуваты…
2
«Клуб» был про Алтай.
Во весь час в доме рокотал мелодичный спиридоновский басок. Фёдор Михайлович, молодой профессор биологии, рассказывал об алтайской природе.
Мама напряжённо уставилась в экран и размышляла своё, убравшись в свои хлопоты.
Это я видел по её лицу.
Я наблюдал за нею краешком глаза. Она никак не могла приставить ума, как же это так крутнулось, что молчавший три года кряду чёрно-белый телевизор вдруг пошёл показывать в цвете. Может, пока отлёживалась в Ольшанке, купили новый?
Она тихонько подалась вперёд, трудно прошлась глазами по названию. Собрала буквы в кучу. В слово. Вышла старая марка Темп. Это и вовсе спутало её…
Зоя Фёдоровна, сидевшая между мной и мамой с Людой на коленях, светилась вся умилительным восторгом. Счастливей ребёнка я не видел.
Что до меня, лучше бы я вообще ничего не знал об этой передаче! Я готов был вскочить и уйти, но почему-то было неудобно перед Зоей Фёдоровной и я, ёрзая нетерпяче на стуле, будто подо мной раскладывали костёр, ждал конца.
…Нынешним летом уже по заданию одного московского журнала я был у Спиридонова. Заслан в набор, по мнению редактора, мой роскошнейший очерк о нём. О Спиридонове.
Я влюбился в Спиридонова с первой минуты, как девочка. Кажется, не в назойливость был ему и я. Потому те две недели, проведенные вместе в экспедиции по Горному Алтаю, радостью легли мне на душу.
Может, Фёдор никогда и не завернул бы в науку, если бы…
Он работал помощником лесника. Собирал травы для вечно болевшего старика соседа, готовил отвары, настои, чаи.
Фёдор заочно учился на втором курсе лесного института, когда его укусил энцефалитный клещ. Заболел кожевниковской эпилепсией.
«Живица кедра заживляет раны и дерева и человека, – слышу я Фёдора не с экрана, я слышу его голос у далёкого вечернего костерка на берегу неспокойной Бии. – Человек и высшие растения имеют в общем-то одинаковых возбудителей заболеваний – бактерицидных вирусов. На уровне клетки организмы человека и растений близки. Те же биохимические реакции, те же обменные процессы… Напрашивается мысль, а не пригодятся ли лекарства, приготовленные растениями для борьбы с возбудителями своих болезней, и для борьбы с болезнями человека?»
На два года Фёдор взял академический отпуск.
По книжкам, а больше по рассказам травниц изучал лечебные свойства нужных ему растений, в поисках которых излазил все горы.
И беда откатилась.
По горькой иронии судьбы болезнь сделала его учёным.
Необходимость заниматься травами переросла в потребность, в которой было всё: и восторг перед магией травы, и благодарность ей за исцеление, и долг, обязанность, если хотите, вступиться за траву в невидимой и вечной схватке с невежеством, и горячее желание сказать своё слово о богатырской, несвалимой силе травы.
В походах Фёдор составил гербарий из одной тысячи восьмисот видов растений. Описа́л две тыщи растений, половину из них разнёс по болезням.
При таком багаже не грех появиться на учёном миру. С отличием кончил институт. Защитился. На травах въехал в кандидаты…
Когда Фёдор узнал, что при смерти Шукшин, Фёдор всканителился лететь в Москву со своими травками.
Сразу Фёдору отпуск не дали. Всё с завтра да с завтра.
Опоздал Фёдор.
Судьба только и позволила, что прошёл за гробом громкого земляка и без речей положил на оседающий холмок ветку калины красной с Родины.
– А будь, – спросил я тогда у костерка, – а живи ваш тёзка Достоевский в наши дни, взялись бы его лечить?
– А что же нет? Укатал в себе эпилепсию, да посмотрю на его?
В той экспедиции мы тесно сошлись.
Так много говорил о себе каждый, что, казалось, ничего нельзя было утаить при нашей отпетой откровенности. Однако, выходит, воистину человеку язык дан на то, чтобы скрывать свои мысли…
Я хмуро взглядываю на теле-Спиридонова и теряюсь в догадках. Вот тебе и дар души![328]
Если это тот Спиридонов, так почему он мне ничего не сказал про свою ряжскую эпопею?
Конечно, всякому встречному-поперечному не след распространяться. Но я, я-то!
Я-то, в конце концов, имел какое-то к ней отношение. Не мне ли он слал благодарность? Не меня ли звал в посажёные отцы?
Что же после, через четверть века, в экспедиции он даже и не заикнулся про Ряжск?
А может, это совсем разные Спиридоновы? В самом деле, Ряжск, московская околица, эвона где. Если этот Спиридонов ряжский, то как попал на Алтай?
Я спросил про то Зою Фёдоровну. Она ответила:
– А просто. Распределили туда после лесного техникума.
Так почему он тогда молчал?
В лицо, конечно, мы никогда не знали друг друга.
В Ряжске…
Тех нескольких мгновений, пока он на велосипеде проезжал мимо, мне не хватило, чтоб запомнить его лицо, тем более я видел его с гостиничного балкона лишь сверху и сбоку.
Я спокойно могу сказать, что в Ряжске давнем мы не виделись.
Но фамилия, фамилия-то моя наверняка могла что-нибудь сказать ему при встрече в экспедиции?!
Однако…
А почему это моя фамилия должна ему что-то сказать?
А его фамилия мне ничего не могла сказать?
Могла. Так не сказала же! Не могу я упомнить всех, о ком когда-то писал. Не мог, ясно, не забыть за давностью и он мою фамилию. Мог вообще забыть ряжскую историю.
Всё возможно.
И потом, укорно думается мне, сделал доброе дело, что ж о нём звонить? И охота ли ему лишний раз походя кидать соль на свою старую рану?
Постепенно к концу «клуба» обида во мне ломается, рассасывается, и мы дружески расстаёмся с детски ликующей Зоей Фёдоровной у вовремя вернувшейся за нею машины.
– Ну, вот бабка и дома! – опускается мама на свою койку у жарко разгоравшейся печки. – Даже не верится…
– Бабушка, – ластится к маме Люда, – а Вы больше не будете болеть?
– Не буду, говорунчик мой… – И с детьми мама говорит по-городскому.
Люда выворачивает из кармана липкий комок пирожного.
– Это Вам со вчера, – подаёт маме, – с моей деньрожки… Не болейте, – жалобно просит внука. – Подправляйтесь…
– А куда, Людушка, деваться? Пойду поправляться… Это ты мне вроде подарок принесла?
– Эха-а…
– Вот спасибко, вот спасибко… Есть кому об бабке позаботиться!
Мама отщипывает от пирожного ломтик, ест, закрыв глаза и качая головой:
– Вку-у-усно!
Девочка розовеет от восторга и победно смотрит на меня: ага! Я подарила, а Вы не подарили! Я подарила, а Вы не подарили!
Ну, думаю, раз повело на подарки, так у меня тоже кое-что припасено. И достаю из портфеля полиэтиленовый мешочек с травками.
– Эти травки, ма, мне дал, между прочим, отец Зои Фёдоровны… Вот по телевизору на него смотрели… Во-он откуда приехала Вам подмога…
Мама не знает, что и сказать, хлопает усталыми глазами. Вишь, с кем сын водит знакомство? С отцом самой Зои Фёдоровны!
Я читаю её мысли на расстоянии и согласно киваю. Да, да. С отцом самой Зои Фёдоровны!
Люде неинтересно, кто и что с кем водит.
Она следит, как я закрываю потихоньку портфель, и, тыча в него пальчиком, таинственно шепчет:
– Бабушка! А портфелик зажмуривается… И тут же: – Бабушка! А моя кукла потеряла бантик… И лопаточку я свою разломала…
– Ничего, не горюй. Будет тебе и бантик, будет и новая лопатушка.
Девочка довольна.
На радостях распахивает альбом.
Показывает маме свои рисунки.
– Тут Вы… И тут Вы… Везде Вы… Я повсе дни Вас рисовала, покудушки Вы болели…
– А почему я у тебя на всех картинках выше дома?
– Вы… – смутилась девочка, – хорошая… молодая…
– Э-э, Людаш… Я сама стара… То только вид молодой…
3
Мама прилегла на свою койку у печки. Подобрала под себя ноги.
Потрогал я лоб – горячий. Спросил, не болит ли голова.
– А шо ей делать? – мама скептически махнула рукой. – Нехай болит. Я ось шо думаю… Чого люди гибнут? Чем дышим, шо йимо? Конхветы, шиколады, печенья… А люды негожие. У нас, було, ведро картохи – картоха рассыпчатая, як песок, – за раз ведро картохи в мундирах зъидалы… Перевернём сковороду, як колесо, – одни шкарлупки… А вси здорови. А вси сильные булы. Шо трэба йсты, шоб швыдче бигать?
– Выпили б мумиё, – предлагаю.
– Да ну… Дай передохну от лекарствий. Подожди… Зараз Глеб придёт, – несмелая улыбка шатнулась в глазах, – а то помру и Глеб не побаче… О! – показала на окно. – Быстрый на помин!
Я посмотрел в окно.
В окне посмеивался Глеб с двумя сумками через плечо.
Секунду отпустя он вошёл и, не снимая сумок, коротко поклонился маме с улыбкой:
– Ну, как, ма, лежится на новом месте?
– Мякше, сынок.
– Ну слава Богу!
– А я дывлюсь на часы та думаю, пора вжэ с вахты явиться нашему Топтыгину. А его всэ нема та нема. Не украли его там жинки?
– Не волнуйтесь, ма. Товар я недорогой. На тропинке буду лежать – переступят, а не подымут! – весело пожаловался Глеб и уже строже продолжал: – Я, чтоб лишнего круга не делать, со смены да за покупками. Хлеба надо, крупы надо… По случаю Вашего приезда бутылёчек умилительной не надо? Тоже надо! Правда, в отделе «Соки-водки» я слегка ографинился… Оприходовал стаканчик валерьянки за Ваше выздоровление. Понравилось. Прошу бутылёк завернуть домой – на вынос сорокаградусной валерьянки нет. Пришлось взять звездинского.[329]
– Пьёте коньяки? – деланно удивился я.
– А что? – вальяжно щурится Глеб. – Или мы много получаем? Или мы мало кому должны?.. Нагрузился я, как середняк… Мешок на груди, мешок на спине. А между мешками, посредине – се-ред-ня-чок! Нагрузился середняк, еле дотащил. Как Вы, ма, эти сумяки только и таскаете?.. Да! В хлебном нос к носу столкнулся с лучшим другом. С самим Святцевым! То обегал меня сотой дорогой. А то первый поздоровался. Что-то в лесу сдохло! Поздоровался и спрашивает, как мама. В другой раз я б ему промеж глаз молнию пустил. А тут, раз такое галантерейное обхождение, раз на культуру занесло, я ему на его культуру отвечаю так же культурно. Дня три назад, говорю, брат был в Ольшанке, рассказывал, сердце работает не совсем как надо, шум в ушах бывает, однако посулились сегодня выписать. Святцев и доложи: сегодня выписали, должно быть, уже привезли. Может, говорит, есть резон привести ко мне. Что-нибудь выпишу на время адаптации. Больница, лекарства и вдруг ничего, никакой поддержки. Такие резкие перепады для старых людей нежелательны. Поспасибствуй я и промямли что-то вроде того, что, может, и приведу.
– Не-е! – со спокойной твёрдой решимостью возразила мама. – Ни к якому Святцеву ты мэнэ, хлопче, и на налыгаче не затянешь. То ты миг мэнэ повести под руки, покы я не мала сил даже минуту яку выстоять на ногах. А теперечки я тако крепко упрусь, шо ты мене не сдвинешь к Святцеву. Да вин гляне – не знаешь, чи лечить будэ, чи ще шо. Чем к Святцеву, уж налучше пить цю мумию.
Глазами мама повела на пузырёк с темно-коричневым порошком на столе.
– Не мумия, а мумиё, – поправил я.
Глеб взял пузырёк, болезненно посмотрел его на свет.
– А я бы не советовал пить эту мумию, – посмеивается надвое. – Напьёшься – точно сам станешь мумией.
– Да ты хоть слыхал, что это такое? – накатываюсь я на Глеба.
– Звон большой идёт… А… Его ещё не то горным воском, не то горной слезой называют… Нет, ма, Вы не пейте. И я пока не буду. Сначала пускай он сам выпьет, а мы посмотрим на результат. И тогда… А то, может, натолок чёрных листиков и – мумиё!
Это меня заскребло.
Неужели я мог везти Бог знает что! Правда, я и сам толком не знаю, что за зверь это мумиё, какое оно на самом деле. Но уж если профессор даёт и говорит, что даёт мумиё, так я и верю профессору.
Я бросаю в стакан порошка, сколько зачерпнулось на кончике спички.
Жду, когда растворится.
Мама с опаской смотрит то на меня, то на Глеба.
– Хлопцы! – в панике просит она. – Та бросьте вы эту крутаницу! Не пей! – машет мне. – И шо ты там такэ наводишь?.. Давайте зробымо так. Напоим попервах петуха. Забастуе… Отвéрнем голову та в борщ! И пить сами ничо не будем.
Предложение её ещё больней подкусило меня.
Я стал лихорадочно взбалтывать, стараясь поскорей разнять водой последние крупинушки, и, дождавшись, когда на дне не осталось ни одной малой чернинки, разом выпил.
Мама охнула. С горьким упрёком, потерянно сронила:
– Или у тебя разум, как стекло, чистый?
– Это он душу промочил, – хохотнул Глеб. – Аппетит к обеду собирает.
За обедом Глеб наливает маме, Люде, мне ситра, себе коньяка.
– Природа не терпит пустоты, – подмигивает. – Надо заполнять.
– Ты б не трогал вина, – посоветовала мама. – Оставь на проводины.
– Ма! Вы меня оскорбляете! – На полкомнаты разнёс Глеб руки. – Да неужели мы не найдём чем выпроводить? Найдётся и с лихвой. Что ждать проводов! Надо, мам, жить сегодня. Жизнь нам дана во благо. Надо спешить здесь. А там не нальют, сколько ни подставляй. Вы вернулись… Разве грех выкушать за Ваше здоровье? Я ведь сегодня и не буду уж шибко разбегаться. Так, для приличия всего один стакашек пригну и ша. На боковую.
– А Вас, – поддела Люда, – не придётся до койки катить, а потома по гладильной доске вскатывать на постелю, как папку?
– Не переживай, малышок. Меня одним пузырёчком, – подолбил ногтем по нарядной бутылке с коньяком, – не свалишь! – Он замолчал, будто споткнулся. – А… Вообще-то надо бы докопать в огородчике, покуда мороз не ужарил.
– Тогда не пей, – ожила мама. – А то в работу не сгодишься.
– Там той работы… В полчаса впихнёшь…
Глеб оценочно покосился на меня, задержал на мне медленные глаза. Хмыкнул.
– Ма! Да наш москвичок начинает синеть, и усы опустились. От мумиё. – И мне: – Думаешь, то ли жив буду, то ли нет… Жене прощальное письмо написал бы, что ли… Завещаньице там… Чего не ешь?
– После мумиё надо немного подождать.
– Ну жди, жди. Дождёшься – улетит курятинка!
Мама потихоньку ест свекольный салат, как-то вслух про себя говорит, словно оправдываясь:
– А мне мясо низзя, а зъим – серце по рёбрах бух! бух!! бух!!!
– А мне можно! – выкрикивает Люда, уцеливаясь вилкой в кусок потяжелей.
– Ну, тебе по штату положено, – отзывается Глеб. – Ты у нас невеста. Жених ещё не сбежал?
– Неа…
– А за что ты любишь своего Женьку? – допытывается Глеб.
– Он маленький, худой… И конфеты мне давал…
Девочка прислоняется к маме.
– Бабушка… – шепчет. – У меня левый глазик ленивый, не хочет видеть. Я закрою правый, сама смотрю левым, а нос от меня убегает…
Мама молча сажает девочку к себе на колени и гладит её по руке.
После обеда мы долго не расходимся.
Тихий разговор о житье-бытье держит всех нас вместе не до сумерек ли.
Нет-нет да и завернёт Глеб к мумиё. Подколет:
– Я ждал… Вот-вот начнёшь зевать от этого своего… Да разве дождаться? Один уговорил почти целую сковороду курятины с луком! Мужественный товарисч! Все великие свои новые препараты испытывали на себе.
Мумиё всё больше, плотней занимает маму.
Наконец, перекрестившись, на разведку принимает глоток золотистой влаги.
– Во рту холодит, як мята… А приятное… – Отщипнула хлеба. – Бачишь, похлебала твоего лекарствия – прибежал аппетит в гости. Хорóша мумия…
Впервые за все эти дни я вижу на её лице улыбку. Светлую, кроткую. Казалось, мама пробовала, училась улыбаться.
– Ну что ж, спасибо этому дому, побежим к другому, – вставая и смахивая с коленей крошки на ладонь да в рот, с протяжным вздохом проговорил Глеб. – Как с Вами ни хорошо, – наклонившись, он глянул в окно, на огород, – а где вчера воткнул лопату, так там досе и ни с места. Не копает сама. Стоит нахалюня. Ждёт!



