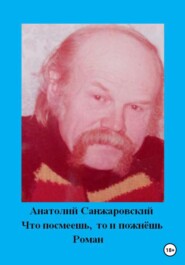 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
Глава шестнадцатая
Друг другу всяк помо́га.
1
А произошла эта история очень давно, ещё в нежной молодости.
Тогда я только-только вжимался, входил в газетную суматоху.
Прокрутившись, как колёсная белка, года три в районных газетках и поступив на заочное журналистское отделение университета, загорелся я пробиться в областную молодёжку.
Я собрал свои лучшие очерки, фельетоны и отправил их редактору Ух! Прозвище это ему приварили за отчаянный и бесшабашный нрав.
Ответ был деловой:
«Приезжайте. Вас ждёт работа. Правда, с месячным испытательным сроком».
С испытательным так с испытательным…
Помнится, отлетала последняя неделя моего испытательного срока.
Вызывает меня редактор и говорит:
– Ручку держать ты можешь, прилично строгаешь. Но! Великое есть но. Вот три раза посылали тебя в командировку. Что ты привозил?
– За чем посылали.
– В том-то и беда! Да, да! Беда! Сказали тебе о преподавателе-изобретателе Кутьине – раскрутил дай боже! Даже «взрослая» областная газета похвалила. Не спорю, удача. Сказали про дояра Крутилина – живо, интересно, без претензий. Сказали про свинарку Клаву Варфоломееву – пожалуйста, про Клаву… Вот что странно. Неужели в командировке ты вокруг ничего и никого не видишь кроме того, о ком велено писать? Тогда ты не журналист. Вокруг жизнь! И преступление выхватывать из неё на всеобщее любование одну какую-то персону, пускай и рекомендованную свыше. Тебе, думаешь, зря подсовывали задания только о передовиках? Не-ет. Пробовали, щупали, как ты, увидишь ли кого за передовиками. Увы, не увидел… Это втёрло тебя в пиковое положение. От тебя дрейфует твоё место к Ряшину. Я не делал секрета. В первый же день сказал, что на одно место два претендента. Старайся. А ты?
– А Ряшин выполнил хоть одно прямое задание?
– Этим и берёт! Да, прямого задания ни одного не выполнил. Зато из каждой командировки приволакивал чужую боль. Незаконно уволили молодого мастера – Ряшин восстановил. Без дела влепили парню строгача – Ряшин снял. Э! Ряшин усвоил, что газетчик не фиксатор, а боец, и потому в командировке он ищет человека в беде, тащит из беды. Ради этого и можно и нужно поступиться заданием. К маяку не грех наведаться в другой раз. Ни-че-го с ним не случится. Но с человеком в беде – уже случилось! Понимаешь?
– И без пониманий остаётся Ряшин… – сломленно сложил я крылышки.
– Ещё тебе одна командировка. В Новодеревенский район к знатной телятнице. Телятница… Так, поплавок на крайний случай. Смотри хорошенько вокруг. Честно говоря, мне хочется, чтобы остался именно ты.
Без энтузиазма принял я его заверения в симпатии ко мне. Пожалуй, это он из вежливости подпустил.
Игра проиграна.
Время собирать свои тряпочки.
Самое верное, надо забрать трудяжку и…
Ну куда мне теперь деваться?
2
Делать нечего.
Я поехал в последнюю командировку.
Я сидел в вагоне у окна. Смотрел на печальные снега и перебирал наш разговор с редактором.
Редактор был молод, как и все в редакции. Помимо молодости у него ещё был тот плюс, что он считался у нас самым стойким к ударам жизни.
Смельчак!
Боец!
Ему, выпускнику МГУ, молодому специалисту, не нашлось жилья.
Два года Ух! спал у товарища на сундуке, написал на сундуке первую книжку, выстроил дом, будучи холостым и счастливым.
Ещё в прошлый понедельник был он холост.
А во вторник…
А во вторник попал-таки под колёса любовной интрижки, неожиданно для самого себя женился.
В ту пору Ух! крутил, вернее, по его мнению, благополучно докручивал угарный романишко с одной прельстительной белокурой газелью.
В злосчастный вторник они прогуливались в сквере.
И как скверно всё повернулось!
Прижгло им на тропинке у развиловатой чёрной берёзки поцеловаться.
Незапрограммированный поцелуй непростительно затянулся.
Мимо проходили люди.
Всем был без разницы этот горячечный экспромт, всем кроме мужа этой газели. Судьба вытащила его с пятилетней дочкой совершить променад и привела именно к целующимся.
Капитан приказал дочке молчать, а сам, культурненько дождавшись конца исторического поцелуя, заговорил.
Последовало короткое трехстороннее объяснение такой силы, что капитан, вытирая платком руки, победно и легко вышел из сквера холостым, а Ух! – женатым и с плачущей тяжёлой падчерицей на руках.
По уточненным авторитетным слухам, капитан был безумно счастлив, что подловил чистый, безупречный момент расстаться со своей пакостливой белогривкой.
А как себя чувствовал в новом качестве Ух!?
Депрессуха придавила его…
Мне непонятно…
На газетной полосе он горячий боец, в редакторском кресле отважный боец. Той же бойцовской прыти требует и ото всех нас. Так неужели он борец только в служебное время, с девяти до шести? А кто он с шести до девяти? Почему свою свободу он даже и не подумал защищать?
А впрочем, как защищать, когда из ста шансов сто против тебя?
Сам себя загнал в тупик, из которого один выход, и тот предательски вёл в загс. Грустный конец у опрометчивых заигрываний с мечеными, замужними, газелями.
Кому пожалуешься на себя?
Я вспоминал вчерашнее чадное, тоскующее его лицо.
Мне было его жалко.
3
Скорый допилил до Ряжска в одиннадцать. Опоздал на двадцать минут, и этих двадцати минут вполне хватило, чтоб моя электричка бездумно улизнула без меня.
Следующая будет в десять вечера.
Долгохонько таки куковать.
И я отправился в город.
У меня была привычка: в маленьких городках я не спрашивал, где находится нужное мне присутствие. Я любил отыскивать его сам. Шёл и читал вывески и ничего увлекательней у меня в том городке не было и не могло быть.
Вот так и в Ряжске.
Туристской рысцой с любопытством обежал весь центр, пока не упёрся в райком комсомола.
Я сразу к первому, к Ивану Рыжкину.
Мы с ним шапочно знакомы.
На прошлой неделе я брал у него в обкоме какую-то информашку, так что к Рыжкину я прошёл без доклада.
Не могу я начинать разговор с погоды.
Сразу с места в карьер.
Без подходов-переходов возьми и бухни:
– Не надо ли у вас за кого заступиться?
– В каких смыслах? – не понял Рыжкин.
– А в самых прямых. Стряслась беда, человека молодого уволили ни за что… Оклеветали… Ещё что там в этом роде…
– Обижаешь комсомолию, обижаешь, – насупился громоздкий Рыжкин, подымавшийся над столом крутым стожком. – Да что ж мы сами не защитим, если кого надо? – Рыжкин лениво поставил по углам стола комковатые кулаки. – И потом, на крайность… Что, нету у нас милиции, прокуратуры, суда? Надо – не станем ждать заезжего корреспондента. Будьте покойнички!
Рыжкин уничтожающе уставился на меня.
Моя хиловатая комплекция явно не вязалась у него с самозванной миссией защитника. Краснея, с минуту я не сводил с него конфузливых глаз и, прощально кивнув, неловко вышел.
Городок, закиданный чистыми глубокими снегами, казалось, вымер. Улицы были пусты, и в диковинку было увидеть кого-нибудь на улице в тридцатиградусный холод. Лишь сыто толклись над крышами прямые сизые столбики дыма.
Обжёгшись на своей дурацкой помощи, я двинулся к остановке. Не хотите, ну и не надо. Вернусь на вокзал, в буфете пожую, а там до своей электрички как-нибудь доторчу.
Одначе уехать мне не суждено было.
Уж что тебе начертано, не обежишь.
Я уже поднялся на первую ступеньку, радуясь зябкому автобусному теплу, как кто-то сильный дёрнул меня сзади за низ пальто, и я повалился на спину.
Оглядываюсь – я на ручищах у гиганта Рыжкина.
– Извини, пожалуйста! – поставив меня на ноги, будто вонзив в снег, он зачастил словами, с трудом переводя дыхание. – Упыхался, пока бежал… Слуш сюда. Я ж тебе почти нагрубил и вовсе не по делу. Вот голова и два уха в придачу по бокам. Ну начисто запамятовал! А когда ты отбыл, накатилось, вспомнил и рысью вдогонец. Вот какой компот!
Рыжкин подтолкнул меня впёред по пробитой тропинке, как бы говоря: иди.
И я пошёл, не спрашивая, куда и зачем идти.
Для надёжности он взял меня за руку выше локтя, точно боялся, что я убегу.
– Вот какой компот! – на разгонку повторил он. – Только, – недоверчиво покосился, – прости за прямоту, квёленькой ты весь какой-то. Справишься ли?
– В грузчики нанимаешь? – поддел я.
Меня заело, что мою худобу ставят мне в вину.
Рыжкин простительно качнул рукой. Мол, была не была.
– Вот такое у нас чепе… От имени и по поручению бюро райкома я писал в саму в Москву. В «Комсомолку». Люди там, конечно, вежливые, прислали цидульку: ждите, командируем корреспондента. Ещё когда я получил эту писульку, а никто не едет. Спешат и падают! А суд уже на той неделе. Уже день слушания назначен! А до суда нельзя допускать… Я верю, суд оправдает его, но, повторяю, до слушания дело нельзя доводить. Мы ж провинция… Городок с кулачок… Все друг дружку знают. На суде весь город скопится… Как жизнерадостные дети Совка…[303] Выставить на судилище… Каково потом и ей и ему в этом городе жить? Ты понимаешь?
– Пытаюсь… Толком можешь объяснить, что же, наконец, такое стряслось?
– А ничего, собственно, такого не стряслось, – опустив как бы под тяжестью случившегося плечи, устало пробормотал Рыжкин. – Просто комсомолка пошла на свидание с комсомольцем, а со свидания вернулась… недевушкой…
– А кем же? Членом КПСС с семнадцатого года?
– Женщиной.
– Это ново? А к кому ходила… Он-то что?
– А сидит. Ждёт суда. Так судить надо не этого парня, а того, кто ладится его судить!
– Это уже что-то новое.
– Представь! Мать этого парня, Фёдора, в суде секретарша. Между нею и новым следователем – я его не знаю, не сталкивался – вспыхнула какая-то служебная свара. И надо же такому набежать… Под следствие попал именно её сын! Дело отдали вести именно этому следователю. Вот он, кабриолет,[304] и выгибается! Я был у Фёдора в кутузке, спрашивал, согласен ли жениться. Согласен! И на очной ставке подтвердил. Он согласен, она согласна.…
– Гм… Он согласен, она согласна… А как же дело оказалось у следователя, а сам Фёдор в предварительной отсидке?
– Подробности у Лиды. К ней я приведу тебя в самую последнюю очередь. А сначала, свожу-ка в финотдел, где Фёдор работает инспектором и шофёром по совместительству, в вечернюю школу к учителям, к ребятам прямо на занятие, к соседям. Послушаешь, что же этот Фёдор за человек, и ты убедишься, что вовсе не зря от имени бюро писал я в «Комсомолку».
4
Я был и у Лиды дома.
С самой Лидой не разговаривал, и слава Богу.
Мать её, узнав, кто я и зачем явился, взмолилась:
– Не надо! Не трогайте её! Она и так на работу бросила ходить, в школу бросила ходить, на улицу даже со стыда глаз не выносит. Сидит за стенкой в комнатёхе да ревмя ревёт. Боюсь я за неё. Не наложила б на себя руки из-за этого ковырялки-следователя. Это в какой позор втоптать!.. В чёрном воронке возить на допрос, на обследование к судебному врачу… Не силодёром ли бельё снять… Какое сердце не охнет? Какое сердце не затаится от таких надругательных обид!.. Сидит, всё стонет да всё дурой честит себя. Оно и жалко. А подумаешь, дура и есть! – неожиданно выворотила мать. – Я как понимаю…
Она придвинулась ко мне, заговорила вшёпот:
– Дело молодое… Подожгло… Сгорела… Чего в задний след кричать? Чего рот ширить? Сперва она молчала, правильно пошла на дело смотреть… У них уговор какой был? Встретятся на другой день. А он, бешеный бычок, не то что на другой – не приди и на третий! Моя – она у меня ещё сопливенькая, не вошла в года – и всполошись. Мол, забрал чего надо да и в сторону. Моя мне и пожалься. Мне б этот конфуз молчаком примять, а я, бесклёпочная, знамо дело, сама в дурь и стригани. А-а, заблажила я лихоматом, ссильничал – рисуй бумагу в суд! Она вроде того и не хочет никаких бумаг затевать, жмётся, пятится раком. «Он, – подаёт ему оправдательство, – ничего не делал против моей воли, вовсе даже не…» – «Силовал! Молчи, дурёна! Мне лучше знать! Что ж, тебе твою чистоту мухи расклевали?» Она слезьми умывается, а я знай вкручиваю щетинку, знай выжимаю своё: пиши, прибитая на цвету, пиши, не то зубы выну! Ты только напиши, а я сама отнесу. Ну, деваться ей некуда, со слезьми начеркала, всё слезьми улила… Я в момент и снеси… Я-то всемушку и вина! Это из-за меня такой срам выскочил на мир… А подожди ещё денёк, ничего б этого ни один кобель не узнал. Он-то, Фёдор, на второй день после того дела был по службе заслан в область. Да не один, а со своим начальством. Отчёты там какие-то… В день не управились, еле в три впихнули свои дела. Катят в микрике[305] назад, а Фёдорушку уже чуть ли не весь трибуналий[306] встречает под городом. Встрели, ручку под козырёчек и зовут из микрика: «На минуточку». И пересадовили к себе в машину, да и туда… в деревуху…[307] что ли… Звали на минуточку, а он досе сидит в каталажке… Вот чего я наработала… Ах, собачья нетерплячка!.. Ну, дальше… Узнала моя про такой мармелад, сама настрочила, сама отнесла хорошее заявление. Прошение вроде. Так, мол, и так, мы согласные, хотим сойтись, пустите его на волю ко мне. А они – дулю! Не выпущають. Всю оказию к суду плавят. Где ж это такой закон – не моги дажно сойтись с кем душе угодно? Ведь засудят, утартают, где и Макарка с телятками не толокся. Что тогда? Я своё наплановала… Вот не отдаст нам суд Фёдора – силом погоню свою к врачу. Иди, накричу, выковыривай из себя свой позор!
– Ка-ак позор? – отшатнулся я. – Какой же позор – ребёнок? Выходит, и вы сами, и Лида, и я, и все, все, все люди на свете – позор?
– Что мне все?! Пальцем будут тыкать в мою в одну. О! Полюбуйся, принесла крапивника! Как матери переморгать такое?
– Оно, конечно… Если вы погоните Лиду к врачу, я и пальцем не пошевелю, чтоб Фёдора отпустили с миром.
– Это ещё почему? – заробела женщина. – Всю так и одел холодом… Ты уж, мил человек, шевели чем угодно, только подавай нам Федюшку обратки… Она ж, – глянула на дверь в соседнюю комнату, – вся горем исходит…
– Дайте слово матери, что ни при каких не погоните к врачу.
– Чуда ты! – радостно всплеснулась она. – Да что мне, слова жалконько? Да я тебе хоть какое обещанье подам! Полное лукошко! Только выверни из этого кривосудия нам Федюшку. Я тебе присоветую… Ты обязательно заверни к его матери. Дверь в дверь с нами проживает. Она служит при суде, в этом деле большая знатница.
5
Двое любят друг друга.
Двое хотят пожениться.
Какой в этом криминал? Лично я не вижу никакого криминала. А вот следователь, продолжая вести следствие (наверняка у него зорче ум), видел криминал.
Да какой же именно?
Я тасовал события этой немудрёной истории и так и эдако, никакого криминала не выискивалось.
Оставалось одно.
Может, излишне усердствуя в этом деле, он сводил какие-то счёты с Фёдором, с Лидией? Может, с кем-то из их родственников?
Вздор!
Не может того быть. Зря грешу я на следователя.
А… А вдруг не зря?
Своими сомнениями я поделился с матерью Фёдора, помня, что она не новичок в суде.
– Во весь наш разговор, – призналась она, – я только и думала, как бы не выболтнулось с языком это… И раз вы сами спросили… Как-то у нас обокрали продуктовую лавку. Заняться ею поручили именно этому следователю. Это было первое его дело. И новенький показал товар лицом. Безменом[308] оказался.
В понятые попал один мой знакомый бухарик с нашей улицы.
Лицо смуглое, волос смоляной – кличка Негативчик шла ему.
Оттёр следователь Негативчика в угол. Шепнул:
«Эти два ящика у порога – ко мне! – и показал на мятый «Москвич» у незапертой чёрной двери. – С каждого ящика поимеешь по премиальной ампулке.[309] И остопаривайся до не хочу! Не на одну опохмелюжку хватит! И какой-никакой приварок на операции «Хрусталь»!»[310].
Негативчик растерялся:
«Идти на операцию?[311]»
«Бежать, огрызок счастья!»
«Нужно мне это, как зайцу триппер. А если осложнёнка?»
«Ослан! Ну чего строишь из себя особиста?..[312] Чего тетеришься? Всё равно ж покупать будешь. Где станешь осликов[313] искать?.. Подумай своей башкатурой… Тащи! И свободен, как облако! Спишу на кабурщиков.[314] Кабурщики всё свезут».
Негативчик обомлел, но ящики снёс. После получил две бутылки водки. Одну выпил с дружками, расписал им в картинках эту историю. А вторую бутылку он припрятал.
Конечно, эту историю Негативчик рассказал и мне. Закончил укором: «А я, осуня, думал, правосудие вершится чистыми руками…»
Не знаю почему, не сдержалась я тогда, заплакала. Я всю жизнь в суде, девочкой ещё поступила в секретари, так всю жизнь на одном месте. Ни разу не слыхала, чтоб такое было замечено за кем-нибудь из наших. А тут тебе на!
«Чистыми! Чистыми! – закричала я. – Затесался один… Сегодня у нас в шесть профсоюзное собрание. Я обо всём этом скажу. А ты будь возле, позову подтвердить и оставшуюся бутылку сунь на обзор собранию».
Так и было всё сделано. А чтоб благодетели следователя не затевали лишние дебаты, попросила проверить отпечатки пальцев на бутылке. Отпечатки были следователевы. Он же сам брал из каждого ящика по бутылке и отдавал Негативчику, не доверял тому. Боялся, что тот вместо одной непременно цапнет больше.
Завальнюк, прокурор, поершил новенького звездохвата,[315] пообещался взять в ежовые рукавицы. На том и разошлись.
Выходим с собрания.
Следователь и толкни меня в локоть:
«Ты ещё у меня попляшешь лезгинку на раскаленной сковородке».
Я посмеялась ему в лицо.
Ну, собрание было во вторник. В среду возвращается мой Федя из командировки домой и попадает в изолятор. Уже позже я узнала стороной, что за час до собрания Завальнюк получил заявление от Лидиной мамы и сразу – новичку. Действуй!
Я просила Завальнюка передать дело кому угодно другому.
Завальнюк с ухмылушкой и ответь:
«Может, вы пожелаете, чтоб дело вашего сыночка вёл сам Роман Андреич?[316] К глубокому сожалению, Роман Андреич у меня в штате не состоит».
– Вам не кажется, что следователь предвзято ведёт дело? – спросил я.
– Видите ли, я лицо заинтересованное. Позвольте на этот вопрос не отвечать. Судите сами. Со стороны видней.
– Но всё же?
– Понятно, моё мнение о своём сыне не совпадает с мнением Шиманова.
– Кто этот Шайтанов?
– Не Шайтанов, а Шиманов. Новый копач… Следователь.
Помилуйте, подумал я, не тот ли это Шиманов, о котором я уже имел счастье писать фельетон «И покойницу выдали замуж»? Если тот, то как он мог здесь выплыть? Ему запрещено заниматься юриспруденцией. Так по крайней мере отвечала редакции областная прокуратура.
– Как он выглядит? – спросил я в напряжении и только тут вспомнил. Хотя писать-то я писал, но видеть-то я его не видел, так что никакие приметы мне ничего не скажут. Я обогнал её ответ, задал вопрос про то, что было у Шиманова самое пикантное. – Жену, жену его Ираидой зовут?
– Ираидой. А вы откуда знаете?
– Ну-у! Эту бабочку «ловкого» поведения мне доводилось наблюдать в полёте.
– Справка. Ираида приходится Завальнюку какой-то десятой водой на сотом киселе. Оно хотя кисель и сотый, а всё же сродствие. Ходили толки, у Шамана в соседней области, где он раньше трубил, вышел скандал. По слухам, о нём даже там в местной газете писали, как он за приличный эфиопский налог[317] выдал одну покойницу замуж. Завели на Шамана дело. Грозила Шаману тюряжка. Его спас от этого родного дома и обогрел своим сердобольным крылышком наш Завальнюк. Уж как он там смог – замял дело и тихочко пригрел Шамана у нас в Ряжске.
Боже, неужели судьбе угодно снова столкнуть нас?
…Фельетон я тогда накидал в блокнот ещё по пути из командировки.
Расставаясь с Ираидой, я сказал ей, чтоб позвонила в Геленджик мужу, где он отдыхал, и сообщила, что им интересовался корреспондент. Если мужу есть что возразить, пускай даст телеграмму в одно слово Подождите, и печатание фельетона будет отложено до встречи. Крайний срок телеграммы четверг.
В четверг я сидел как на иголках. Я вздрагивал от междугородних звонков, боялся смотреть в глаза доставщицам телеграмм.
Фельетон мне нравился и мне жалко было его выбрасывать.
Его уже вот подписывает редактор…
Вот засылают в набор…
Вот уже набирают…
Вот ставят на полосу…
Вот уже печатают… (Газета выходила по пятницам.)
Не дай бог вякнет Геленджик…
Но все обошлось!
Геленджик молодцом молчал, будто набрал в рот морской воды.
Спустя дней пять в обком поступило экстренное донесение.
Разгневанная Ираида спешила уведомить, что я, «коварный искуситель», воспользовавшись отсутствием мужа, остался у неё, конечно, у слабой, беззащитной женщины, ночевать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Первое: «лишил невинности», разумеется, её, «огулял нахалкой»[318]. Второе: «надругался как хотел над законным мужем – написал нехороший фельетон».
В обкоме весело смеялись.
Нелепость обвинений была очевидна.
В самом деле, чего стоила одна песнь песней о жестокой разлуке с невинностью. Как я мог разлучить пылкую Ираиду с этой святой добродетелью, если при нашей встрече у неё уже был сын? Слава богу, хоть не вешала мне этого юного чингисханёнка.
Итак, трогательная версия о расставании с невинностью в моём активном присутствии отпадала начисто.
Зато повисла в воздухе любовь с криком.[319]
Всё-таки, где я провёл ту ночь, когда под вечер действительно был у Ираиды?
Мне верили и не верили, что я не завяз тогда у неё до утра, и, дабы поставить все точки над i, пошли навстречу моим настояниям. Вместе со мной выехал к Шимановым инструктор обкома партии.
Мы подняли старые квитанции в той гостинице, где я останавливался.
Однако моя квитанция ещё не алиби.
Я мог заплатить, а в гостинице не спать.
Толкнулись в отделение милиции.
Там раскопали запись о моём задержании, привели Сашу, того милиционера, который меня задерживал, когда я, голодный, просил продать мне в столовой хоть кусик хлеба, поскольку столовая уже закрывалась и не горевала, что весь день я не ел. Милиционер прекрасно всё помнил, рассказал в таких подробностях всё, что усомниться в достоверности его слов невозможно было.
Очищенным покидал я тот городок.
За визиты к Шимановым расплачивались Шимановы сами.
Ираиду, воспитательницу детского сада, уволили.
Всякая клевета чего-то да стоит…
В мгновение пролетели в голове эти воспоминания, и оставили во мне неприятный осадок.
Снова предстояла встреча.
Меня передернуло.
– Да вы что, – опечалилась мать Фёдора, – знаете Шимановых?
Я не хотел распространяться и неопределенно пожал плечами.
Был уже первый час ночи.
Я засобирался уходить.
– Да куда вы в такой мороз? – Она глянула в окно на градусник. – Тридцать три! Куда в такой час? В Фединой комнате переспите. Оставайтесь.
Я не остался.
После истории с Ираидой у меня теперь твёрдое правило: никогда не пристывать на ночь у тех, о ком будешь писать неважно что, фельетон или песнь-очерк.
6
Гибельный морозина всякому набрасывал резвости.
Особенно у меня мёрзли ноги в лёгких, осенних ботиночках и в простых бумажных носках. Хоть под носками я обернул ноги газетой для тепла, но оттого мои ступни почему-то не прели от жару.
Молодой, хлёсткий на ногу, уже через несколько минут я стучался в гостиничную дверь.
– Ну чаво надоть? – дребезжащим голосом жёстко спросила гостиничная владычица, толстая неприветливая старуха. – То-ольке угнездилась… Ломятся господа дворяне![320]
– Переночевать у вас очень хочется…
Старуха узнала меня.
– А-а! – с тихим, ликующим злорадством сказала. – Ты, кирспандент, зря стараешься. Нечаво по пустому делу колотить. Ничаво не выстучишь. Твоё место отдадено.
– Что-о?
– С грушами, говорю, проехали. Яблоки провезли.
– Я же был у вас днём! Мы договорились!..
– Ка-ак, полуношник, договаривались? Ежель в двенадцать не наявляешься, я могу отдавать твою койку. Так?
Я поддакнул.
– Так чаво тебе? Уже половина первого. Местов у меня больше нету… Добавочных не пририсовали… Шо́фер проезжачий с вечера твою ждал месту. Всё молил Бога, чтоб ты не пришёл. Я не отдавала, всё берегла уговор. Тольке уже в первом часе уступила, сдалась по полной. Человек уже благородно спит… Устамши… Он мне не сродственник дажно такой, про какова скажут, что ихний плетень нашему сараю двоюродный дядя…



