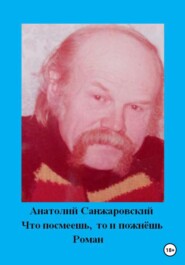 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
Будто от дыхания может снова нагрязниться пол.
– Вот что, – говорит, – раз дело повело на чистоту, давай до победного конца! Ты наблестил пол, я постираю. Собери всё, что надо постирать. Я пойду на завод в котельную, принесу два ведра горячей воды и выстираю. Только прежде надо умыться. Если я не умоюсь, у меня целый день чего-то не хватает. Приглядись к воробьям, к голубям. Все по утрам умываются. Дядя Глеб тоже…
Он нарочито пугливо окунает указательный палец в кружку с водой, протирает мокрым пальцем глаза.
– Что-то ты по-китайски умываешься. Слишком экономно.
– А ты думал! Экономия прежде всего. Да и чего размываться? Всё равно скоро опять на боковую.
Остатки воды он выплёскивает из вёдер в рукомойник и – на завод.
– Ты хоть бы чаю сперва попил, – говорю ему в спину.
– Это ты у нас в интеллигенцию играешь, чай по утрам дуешь. А я его не пью. Я сейчас – рак меня заешь! – ударно поработаю, охотку сдёрну. Там и разговеюсь курочкой.
Целых две верёвки белья настирал Глеб.
Развесил.
Посветлело во дворе от белья.
И без передыху навалился белить печку.
Сам угваздал, сам с колен и белит.
А я тем временем наведался в детскую библиотеку.
Утром на мой вопрос, у кого можно достать последнюю «Смену», почтальонка сказала: «Смена» ходит у нас только в детскую библиотеку.
Милая молоденькая библиотекарша, вырвав себе несколько страниц, где шёл юлиан-семёновский детектив с продолжением, остальное отдала.
В журнале напечатали мой перевод одного украинского рассказа. В Москве я зевнул этот номер в киосках, а тут тебе на!
– Наши не дремлют! – эдак небрежно вымахнул я на стол журнал, раскрытый кверху моими страницами.
Не подымаясь с колен, неверяще всматривается Глеб в нашу фамилию.
– Ты что, – хохотнул он не без гордости, – с русского назад на украинский переводишь? – И без смеха, с грустью: – Есть же человеку чем гордиться. А здесь…
Мне неловко перед Глебом, не рука травить ему душу.
Забрать бы да спрятать журнал – духу не хватает.
Меня всего-то лишь на то и достаёт, что я поталкиваю журнал подальше от Глеба, поближе к окну, чтоб журнал был виден мне одному. Три года ждал очереди рассказ, только что увидел напечатанным и – спрятать? Не-ет… Теперь я ночь не усну, буду лупиться на него.
Дома, на Зелёном, у меня уже вошло в порядок. Как где что дали моё, накалываю на гвоздок над письменным столом на кухне, и бог весть сколько разглядываю его, всякую беду разбавляю им. И когда меня спрашивают, что новенького в мире, я без слов показываю на своё творенье на гвозде; и сидит оно там до тех пор, пока не появится новое.
Если без кокетства, кто не любит себя?
Время от времени покашивая на журнал, навожу чистоту в верхнем ящике стола, где чего только нет: сухие прелые зубки чеснока, луковицы, какие-то пакетики, коробки спичек, рассыпанные спички, старые, поверх срока таблетки и прочая мелочь. За неимением места её на пока суют именно в стол и так как нет ничего долговечней временного, всякий пустой хламишко копится тут с потопа.
– Это что за сор? – подаю я Глебу тарелку с яичной скорлупой, затянутой паутиной. – Пасха когда была? А эта грязь всё валяется! Надо выбросить.
– Я тебе по мусалам выброшу! Это священная скорлупа, а не грязь. А вот мы все – грязь!
Я задвигаю ящик, наваливаюсь пемоксолью сдирать черноту с чайника.
– Чего возради стараешься? Чего тянешься в паутиночку? – отходчиво, плутовато лыбится Глеб. – Это не опасная грязь. Продезинфицированная на огне. Это недвижимая грязь. Ты недвижимой грязи не бойся. Бойся той, что на двух ногах ходит.
Его распирает пофилософствовать под случай и он, подержав на журнале долгий взгляд, роняет в раздумье:
– Жизнь – пустое пространство. Чем наполнишь, то и будет… От нас от самих зависит, что ты будешь делать в жизни. То ли белить печки, то ли печататься… Раньше ты строгал фельетоны. Зачем?
Я мнусь. Странный вопрос. Писал и писал. Работа…
Это всё равно, что спросить, зачем ты дышишь.
Не дождавшись сиюсекундного ответа, Глеб нетерпеливо уточняет свой вопрос новым вопросом:
– Чтоб не писать, да?
– Мы ж об этом уже говорили…
– Помнится, ты сказал, что писал фельетоны из любви к людям. Тогда чего ж бросил? Разлюбил людей? Или все мы уже настолько исправились, что не по ком жахнуть фельетоном?
– Видишь ли, человече, лысина, морщины, усы к чему-то обязывают. Нельзя же всю жизнь гоняться за фельетонишками. Пора намахнуть сети на зверя покрупней.
– На повесть на какую, что ли? А не поздновато перескакивать на ходу с телеги на телегу? К твоим годам Пушкин, Грибоедов, Лермонтов были уже убиты. Гоголь сошёл с ума. Маяковский застрелился. Есенин… Пока не понятно. То ли сам зарезался… То ли ему горячо помогли… Толстой был уже при «Войне и мире». Шукшин добирал свои последние дни… А впрочем, чего теряться? Подходящая линия. Лезь в эту компанию, поступай в писатели…
– Там сидят дожидаются… Чтоб вступить в союз писателей, надо две книжки. Да не в мизинец толщиной. Чтоб можно было убить. Тукнул этими кирпичиками по головке и «относи готовенького». С такими кирпичами только и подступайся к писательской цитадели.
– Не верю, скажу словами Станиславского. Не верю, что всё так сложно. В библиотеке иногда нарываюсь на «Литературку». Когда ни открой, одно и то же. На одном конце страны заседание, на другом совещание, на третьем бюро выездное. Алло, мы ищём молодые таланты! По газете судить, не едят, не спят писательские боги. Бросили горшки обжигать свои. В пене ищут-рыщут! У меня такое чувство, что в это дело включилась и дорогая милиция. Ведёт отлов молодых дарований.
– Ведё-ёт! – с горьковатым смешком подхватываю в тон. – Как-то перед приездом сюда во сне просыпаюсь и глазам не верю. Вроде за окном светло и – черно. Понимаешь, сверху светло, снизу черно. Я нос в окно. Батюшки-светы! От моего подъезда по двору, за дом, за горизонт утягивается чёрная полоса «Волг». Одна за одной, одна за одной.
У машин люди в торжественных фраках. Вон откуда вся чернота!
Вдоль этой чёрной полосы распохаживают духи[300] в белых перчатках. Порядок берегут.
Кто эти во фраках? А, главные. Главные редактора издательств, журналов, газет. С ночи продувные сельжуки толкутся. Всё ждут, когда я, неизвестное молодое дарование, вынесу им свою первую строчку.
Ей-богу, надоело. Так бы всем и врезал по самое не хочу! Ну не могут у нас без заморочки. Ни стыда ни совести. Ну сколько можно!?
Я выхожу на балкон прогнать их.
Начинается вавилонское столпотворение.
Всё кидается ко мне с распростёртыми в бешенстве руками:
«Мне! Только мне! Пожалуйста, мне!»
Один прыткий, наверное, самый главный, выдавленный кипящей толчеей, словно выпущенная из лука стрела, взмывает и безуспешно пробует выхватить у меня папку. Долететь до четвёртого этажа! Не надо бы, думаю, так нервировать искателей талантов. Тем более, у меня от них нет никаких секретов.
Чтобы волнение улеглось, я поясняю, что у меня в папке не рукопись, а чистые листы. Добросовестно демонстрирую эти ненаглядные листы. Утаи правду – с корня своротят дом! Как видите, говорю, бумагой я уже запасся. Сегодня в девять ноль-ноль начинаю творить. Идите и терпеливо ждите.
«Мы уже который год ждём-с, – робко возражают. – Ваш гордый нешевелизм нас пугает… Только мы большие оптимисты. Всё же настойчиво ждём-с!»
«У вас такая горькая доля. Ждите! У меня всё пока творческий запор… Вот кончится… Ждите!»
Я ухожу. А они, – ангидрит твою перекись! – принципиально не уходят. Наглецы! Ждут на месте. Моё чуткое ухо ловит вздохи, ропот, попрёки в мой адрес. Да при таком шуме, при таком, извините, нахрапистом внимании к начинающим попробуй начни. Просто мешают как следует начать!
– А ты все-таки начни, – строго советует Глеб.
– Придётся, – говорю я как о деле будущего, хотя это дело для меня уже не первый год давнее.
Написал я уже одну повесть.
Говорить про неё Глебу не хочу. Конечно, пока. Напечатаю – покажу, как сегодня с рассказом.
А то раззвони раньше дела, ещё не дадут.
У меня случалось так не единожды. Потому до времени выгодней помолчать.
…Загорелось мне узнать мнение какого-нибудь маститого о первой моей повести.
Я к одному, я к другому…
Один говорит: я не читатель, я писатель. Я себя выражаю.
Ну выражайся дальше, выражайся на здоровье…
Второй клянётся-божится, что обязательно прочитает и даже скажет своё мнение, да только в том случае, если принесу я ему повесть уже опубликованную.
Третий чистосердечно спросил:
«А почему именно меня вы приговорили к чтению вашей классики?»
Четвертый, Роман Эпопеевич Многоточиев, прервал меня на втором слове:
«Я написал пятьсот статей, предисловий, рекомендаций. В пятьдесят лет нажил два инфаркта… Пускай другие… Я десять лет не пишу ни строчки. Весь в общественном замоте. У меня двенадцать общественных поручений. Я в пятьдесят хочу начать писать. Хватит общественности с меня! Двадцать лет отдал кедру – пшик! Двадцать Байкалу – пшик!.. На подёнку не кидаюсь. О природе не могу говорить без содрогания, осточертела эта тема. Откликаюсь на самое-самое. Вот в черте города есть Васильевская дача, сносить хотят. Вкрутился в это дело. Во все инстанции пишу спасительные кляузы. Писатель – это кляузник профессиональный, с именем… Вы хоть, спасибо, прежде позвонили, а то иные прямо шлют. Поначалу всё подряд читал, потом стал отсылать назад. Повестей я не читаю. Современных. Прочту пять страниц – меня трясет! И вас читать не буду. Я не буду вам благопрепятствовать… Надо самому пробиваться своими вещами. Вы думаете, как нас учили плавать? Кинут в воду, а сами идут пить кофе».
«Видите, вы меня не выслушали… Никакого покровительства я не ищу у вас. Я хотел бы малого. Прочитали да сказали, что я такое наворочал, стоит ли продолжать. Может, полезней бросить?»
«Как тут советовать… Одно я знаю, пробиваться, что называется на чужом горбу в литературу – это я считаю очень нехорошим делом, непорядочным, глубоко неэтичным…»
Ну и питомец советского зоопарка! До чего злой. Даже в заднице зубы!
Ну, заладит сорока Якова одно про всякого. Да не собираюсь я запрыгивать на его, эпопеевский, горбик, сам с усам. А потом, если начистоту… Каждый порядочный русский писатель приводил кого-то в литературу, передавал эстафету. Хоть называй это преемственностью, хоть ещё как угодно, только что стыдного, безнравственного в том, что Державин благословил Пушкина? «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Та-ак?.. Пушкин уже привёл Гоголя, Кольцова. Некрасов и Белинский – Достоевского. Твардовский – Солженицына…
Новичка поддержал мастер. Что в этом пагубного?
Глеб перебил мои мысли.
– А знаешь, – сказал он, – я б и не советовал особенно рваться в писательскую шатию. То ты фельетон выдал – прочтёт каждый… Хорошему человеку поможешь в беде или негодяя загонишь за решётку… Обязательно прочтёт каждый. А книжки… Иногда пьяные ножки занесут в библиотеку. Книг! Книг!! Книг!!! Страшно! А кто их читает? Я? Я не читаю и не буду. Из всех книжек я признаю лишь одну. Сберегательную! Сейчас и без тебя перебор пишущих. Да читать нечего! На заводе вон записываются в очередь на Виктора Астафьева, на Василия Белова, на Василия Шукшина… На тех, кто сам выскочил из деревни. Этой троице у мужика какая-то особенная цена. А на москвичей у нас что-то не кидаются. Я так посмотрю, ушла из Москвы литературная столица. Стали литературными столицами Красноярск, Вологда. Не потеря ли для Москвы?
– Потеря, Глебка! – вырвалось у меня искреннее. – Ах, как ты верно заметил!
Я чуть было не вывалил ему вгорячах судьбу первой повести, но, слава богу, суеверный расчёт взял во мне верх.
…Потоптал я, потоптал московские порожки да и сошли повесть за Уральский Камень, в Сибирь самому N.
Неожиданно быстро вернулась повесть.
Неделю боялся я распечатывать. А что, ну-ка разнос? А что, ну-ка смертельный приговор?
Я пожалел, что посылал.
То б писал и писал, а ну выкати он на сто лет, разгроми – не усадить меня больше за машинку. Не той величины N, чтобы пренебречь его мнением.
На восьмой день я таки разорвал пакет. Поверх рукописи лежали вырванные из середки школьной тетради два листа в клеточку. Текст был внутри сложенных вместе листов. Я струсил, побоялся сразу раскрыть их. Тут приговор, непременно смертельный!
И всё же потом раскрыл.
Торопливая, участливая рука.
Простите меня великодушно. Ваша рукопись попала в завал. Жена убирала в кабинете и положила ее под листки и лежала она там до моего возвращения из… (слово неразборчивое). Сейчас начал разбирать бумаги и наткнулся.
А потом были написаны главные, ободрительные слова.
Это письмо разбавило мой страх перед издательством, я отнёс туда повесть.
Кажется, повесть приветили, собираются вроде того что издать.
Да что говорить, покуда не держишь в руках книжку?
– А ты всё же, – брюзжит Глеб, как муха в осени, – не лезь в писарьки. Всё равно из тебя Толстой не выйдет.
– Ну-у, как ты поёшь… Один вон из предков Льва Николаевича посылал своё бельё стирать в Голландию. Однако из этого вовсе не следует, что и тебе и мне необходимо делать то же самое. Я сам дома стираю со своей половиной. Ты стираешь в гордом одиночестве. И неплохо.
Я посмотрел в окно на темнеющий двор.
Простыни, хлопая на ветру, взлетали белыми аистами и не могли взлететь.
– И потом. Зачем сравнивать несравнимое? Ещё неизвестно, был бы Лев Толстой Львом в литературе, не будь он графом и не имей крестьян. Крестьяне кормили и его и всю его многочисленную семеюшку. Правда, он ругал себя, что ест чужой хлеб, мучился этим. Ой как му-учился… Та-ак мучился, та-ак всё мучился, что жил чужими трудами. Наелся чужого и мучился, наелся и мучился… Во-о мозгоедство…
– Живи Лев Толстой в советское время, был бы он писателем?
– Ни-ког-да! Он кончил один курс казанского университета. Значит, ему без образования кто бы дал приличный пост? И что тогда ему светило? Чёрный укрыр![301] Орденоносная пролетарская лопата! Хватай больше, кидай дальше! И чтоб прокормить огромную семейку, ему б пришлось столько кидать, столько кидать!.. Ни о какой литературе он бы и не подумал… А так… На всём готовеньком… Чужое ел и преспокойненько по десять раз перелицовывал, латал-утюжил свою классику. Ему не нужно было думать о том, что будет кусать завтра. У меня же, насколько я знаю, работников нет. Ему не надо было до сорока лет гнать газетную шелуху, не надо потом сидеть где-нибудь в штате редакции на договоре, не надо собирать гонорарные справки для литпрофкома в доказательство того, что ты прожиточный минимум сам себе обеспечиваешь… А тут аж кричи надо состоять в дурацком литпрофкоме, чтоб из Москвы не турнули как тунеядца, чтоб трудовой стаж копился, чтоб набегал хоть жалкий приварок к заработку Валентины. А что жалкий, то жалкий… Бывают часто и густо такие месяцы, когда ничего не прошло в журнале. Прочерк. А этого ни-ни-ни! Там какие-то показушные строгости… По советскому законодательству вроде нельзя, чтоб человек ничего не получал за весь месяц. Жить, мол, не на что. А потому – принципиально низзя! И придумали, как это нельзя перевести в можно. Мне давали на ответ три читательских письма. Ответишь на эти три письма – получишь три рубля. По рублю за ответ. На ноль рублей прожить месяц нельзя, а вот на три рубля в месяц можно прожить с шиком! На три рубля купишь целый килограмм любительской колбасы, и десять копеек ещё останется! И разве этого килограммища с лихвой не хватит на весь месяц? Нечего тут обжираловку устраивать!
– Вау! Вау!
– Вот и крутись, как воробейка на колышке. А литература дама с норкой. Капризная. Суеты на два базара не терпит.
– Теперь я понимаю, почему средний возраст члена союза писателей шестьдесят семь лет. Но убей, не пойму, как дурочка Валюня тебя выносит. Вроде умная… Такого лба кормит, а он бумажечки с места на место перекладывает на кухне. Знал откуда брать. Из провинции-матушки. Верно сказано, «хорошие девушки остались только в провинции» и, – насмешливо покосился на меня, – добавлю от себя – хорошие писатели.
8
За дверью послышались тихие шаги.
Мы подобрались.
Не знаю как Глебу, но мне подумалось, что это приехала мама. Раньше отпустили!
Не сговариваясь, мы бросились в сенцы.
– Ты-ы!? – в один голос воскликнули мы разочарованно, увидев Люду. – Ты, деньрожденка, зачем сюда? К тебе ж съезжаются на сабантуй!
– Я уёрзнула со своего рождения… – смято призналась девочка, пряча что-то за спиной.
– Может, – прыснул Глеб, – ты принесла нам по рюмашечке в честь твоей деньрожки?
– Я пришла бабушку встречать.
– Бабушка, – сказал я, – будет только завтра. А сейчас шла б к своим гостям. Наверно, уже ищут.
Девочка отрицательно покачала головой и, просясь глазами, твёрже повторила:
– Я останусь с вами… Ждать бабушку.
– Хочется – оставайся, – разрешил Глеб, добеливая печку. – Бабушкину койку не пролежишь. Вот не заледенела бы… Сама, Людаш, видишь же, какая у нас жарища! Хоть волков морозь!
Девочка благодарно промолчала и, разувшись, с ногами забралась на мамину койку. Угнездилась, подала тонкий голосок:
– Я буду, – прикрыла полой пальто коленки, – собирать бабушке тепло. Жалко, что у меня свинка уже прошла. То б я быстро нагрела бабушке постельку… Бабушка ж вернётся из больницы вся слабенькая… Сильно выхудится… По себе знаю… Дяди! А почему, когда я болела свинкой, я не хрюкала?
– Спроси что-нибудь полегче, – не тратясь словами, отмахнулся я, обставляя в печке газетный комок шалашиком мелко наколотых полешек.
Наконец всё готово.
Спичку поднеси, загогочет радостно пламя.
Пока я к спичкам не тянусь.
Мы с Глебом решили: затопим, когда мама войдёт. Приедет сегодня – сегодня и затопим, не приедет – не топим.
Добелив, Глеб с минуту восхищённо любуется, будто облитой молоком, нарядной печкой. Ай да я, ай да молодца! Подновил печечку к приезду мамушки!
Он несёт черепушку с известью в сарай.
Возвращается с прибежью.
– А мороз, – хукает в кулаки, – на дворе учесал – я тебе дам! Хорошо, что подёргали с тобой да спустили в погреб свёклу. Под навесом оставил корней пять потереть поросёнку. Гремят… Прихватил. Вовремя мы успели. Что значит интуиция. А то год расти, на одну ночь зазевайся… Пошло б хинью всё!
Заметно плотнели сумерки. Быстро накатывалась ночь.
Мы все трое вслушивались в заоконье. Не застонет ли где в ближней колдобине ольшанская скорая? Не заслышатся ли мамушкины шаги?
Но во весь вечер ничего не было слышно.
Ни машины, ни шагов.
Только однажды, уже среди ночи, на углу остановилась машина. Я выскочил, да напрасно. Сосед приехал.
На дворе действительно было холодно. Мерцали, жмурились звезды. Медведица ехала в ковшике.
Застёгивая фуфайку на все пуговицы, под самое горло, я не спешил уходить и тупо стоял на углу, втайне надеясь, что именно сейчас машина с мамой и вывернется.
Я слыхал, если чего-то очень захотеть, то оно непременно явится. Я верил в это чудо, пришедшее ко мне, может, из глубинных недр детства.
Однако время шло, чудо не свершалось.
Ни в одну, ни в другую сторону улицы – я тёрся-мялся на её изломе – не теплилось ни огонёчка. В мёртвой тишине выстывало на верёвках бельё.
Я уже взялся за дверную ручку, как неведомо какая мягкая сила повернула моё лицо назад.
На перекладинке забытого табурета – на него Глеб ставил таз, развешивая стиранное, – я увидел беловатый комочек.
Что могло в этот волчий час, в холод быть там?
Я подошёл, потрогал комочек.
Он просительно запищал.
Это была курочка, самая маленькая. Спрятала головку в ощипанное местами крылышко и сидела.
Бедненькая…
Все в тепле на насестах, а что ж ты здесь одна коченеешь? Самая маленькая, самая слабенькая…
Жалко мне стало её до слёз.
В ней я будто себя увидел.
В детстве, да и всю жизнь потом я держался как-то ото всех на отшибе, особняком, всё стеснялся лезть в кучу жизни, всё всегда первый отскакивал уступительно в сторонку и когда что раздавали, я всегда оказывался обделённым.
Зоб у курочки не прощупывался. Пустой.
Я принёс её на веранду, посадил на открытый мешок с зерном. Она поклевала, попила подогретой воды из плошки, и я отнёс её в тепло ко всем, определил на жёрдочку.
9
На следующий день, часу в двенадцатом, Глеб – у него был, по его словам, выходной – сказал мне:
– Сколько можно выглядать! Это что-то не так… Давай на завод в проходную. Звони в Ольшанку. Да возьми язык с собой. Если что, покруче там с ними…
Трубку сняла сама Зоя Фёдоровна.
– Маму я вашу выписала. Вот пообедает сегодня у нас в последний раз и приедет.
Меня поразил её голос. Прямодушный, ясный. Судьба подмешала в него участия, печали, заботы, счастливого восторга. Такого голоса я ещё ни у кого не слышал, и в то же время мне чудилось, что именно этот голос я уже где-то слышал. Он как-то несмело, словно пробиваясь сквозь далёкие голоса, размыто звучал во мне.
Назад я возвращался медленно.
Мне подумалось, если я войду в дом, мы наверняка прозеваем машину. А потому уж лучше поджидать её у угла.
Как раз напротив наших окон улица делала колено, изгибалась. С этого колена было далеко видать вниз, к центру Гнилуши, куда спадала, стекала улица. Оттуда, снизу, и надлежало ждать.
Я привалился плечом к старой раздетой вишне у нас под окном.
Мне снова прислышался тот голос.
Где я его слышал-таки?
За припоминаниями я вовсе не заметил, как мягко мимо прошлёпала машина по развезённой дневным теплом грязи. Я только увидел, как неотложка, вильнув к обочине, остановилась.
Сперва из неё выставилась обшорканная сумка, верная неразлучница. С нею мама в каждый след ходила: и на огород, и на базар, и в магазин, и даже вот теперь напару отбыли больницу.
Из второй дверцы выскочила молоденькая девушка.
Приняла сумку у мамы, помогла выйти.
Я всё это видел, но оцепенело торчал столбом на месте, не веря, что это вот вернулась мама, что вот теперь всем бедам и конец.
Как-то осуждающе мама посмотрела на меня.
– Сынок! А ну присоглашай Зою Хвёдоровну у хату. Нехорошо ж як… Привезли, а у хату и не зайти…
Девушка что-то возразила.
Из её слов я понял близкое к тому, что вот, мол, на ноги я вас подняла, привезла домой, передала с рук на руки. На этом моя миссия и кончается.
– Только начинается! – на разгонку гаркнул я, помня, что для зачина главное кинуть какие придут на язык слова.
Девушка обернулась на мой голос и удивлённо закусила нижнюю губу.
Да мы с нею от самого Ряжска вместе ехали! Вот так встречка! Вот откуда этот знакомый голос!
Мама обрадовалась, что с Зоей Фёдоровной я уже знаком, и в этом ничего дивного не увидела. Хорошего человека знать везде!
Пока мы раскланивались да ахали, мама зашла за угол, и Зоя, почти приблизив ко мне своё лицо, заговорщически прошептала:
– Знаете, я всё думала, вы это, не вы… – Из чёрной сумочки на плече она достала ветхую газетную вырезку, что зияла пустотами на затёрханных сгибах. – Посмотрите, она вам что-нибудь говорит?
Я взял вырезку.
В этом году, – читал я, – читатели дважды встречались на страницах нашей газеты с фамилией Фёдора Спиридонова. Сначала в номере от 13 января с.г. появилась корреспонденция «Любовь под следствием», где говорилось о злоключениях молодой пары из города Ряжска, ставшей жертвой грубой судебной ошибки. Затем 14 марта газета с удовлетворением сообщила о благополучном исходе этой истории. Следователь тов. Шиманов за грубейшее нарушение уголовно-процессуального закона снят с работы. Прокурору района тов. Завальнюку объявлен строгий выговор. Фёдор освобожден из-под стражи. А 9 февраля состоялась комсомольская свадьба Лидии и Фёдора.
На днях пришло письмо от Фёдора:
Дорогая редакция!
Примите сердечное спасибо за Ваше чуткое, внимательное отношение к моему делу, за то, что помогли разобраться во всём. Особенно мы благодарны корреспонденту тов. Долгову, проявившему личную инициативу и настойчивость для того, чтобы восторжествовала справедливость. Исполнилась наша мечта, мы с Лидией поженились. Живём мы очень хорошо, в дружбе, в любви, в согласии. Успешно продвигаются моя учеба и работа…
– Откуда у вас эта моя последушка?![302] – вскричал я.
– Наткнулась вот у своей ряжской бабушки в старых бумагах. Она приболела, я приезжала к ней на отгульные два дня. Я расспрашивала бабушку. Бабушка ничего не стала говорить. Я вспомнила, что у меня в больнице лежит старушка Долгова. Не сын ли её, подумала я тогда, в чём-то очень важном помог моим родителям? Маму вашу я не стала спрашивать, и все эти дни ходила с этой заметкой. Так не тяните душу, расскажите, что это были за злоключения? Что это была за история?



