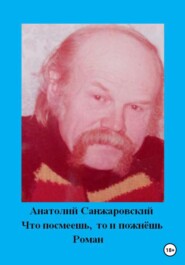 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
Был обед.
На обед он никогда не ходил. С газеты ел обычно в компрессорной. Утром брал хлеба, шмат сала или мяса и весь обед.
Другим проще.
К куску хлеба на заводе всегда набега́ла корчажка молока. Хочешь, черпай дуриком сколько надо. Глеб завидовал тем, кто мог пить молоко. Сам Глеб не мог. Редко когда-никогда выпьет полстакашиика. У него ж, говорила мама, панский желудок. Прими всего-то три глоточка, как желудок начинал давать гастроль, и Глеб не поминутно ли тяжёлой рысцой бухал в сторону нужника. Спешил срочно сменить воду в аквариуме.
Как мне и поручалось ночью, я наварил зверью, замесил ведро мешанки курам и кабану.
Вынес им.
И теперь, отдыхая от потной зарядки, разбито брёл от сарая к дому.
Я шёл, привычно уставившись себе под ноги, будто что богатое мог увидеть и боялся пропустить.
С этой привычки у меня наросла сутулость. Всякий раз, когда я горбатился при жене, мне отсыпалось на орехи.
Сейчас жены не было близко.
Я не следил за собой и шёл, как мне шлось.
Вдруг я заметил, что на пронзительно пустом дворе стало темней. Поднял голову – из-за угла по хлопающей грязи тяжело садил Глеб в чёрной стёганой фуфайке.
– Тебе привет! – вскинул я руку.
– Не до приветов! – поморщился он, но спросил: – От кого?
– Пробегала мышка, передавала большой привет тебе, кормильцу.
– Ё-твоё… Без мышей хлеба не съешь…
Видишь, ты добрый. А я твоим мышам смерть придумал. Что за дела! В сарае, на веранде – тучи! Пешком туда-сюда под ручку шпацируют! На твоих харчах толще тебя стали!
– Я – толстый? Да я за этот месяц сбросил с десяток кило!
– В мышеловку бы мяса…
– Мяса не клади. Мсяо я и сам люблю. Мышам ещё мясо… Хлеба со столичанским маргусалином – обойдутся. Сначала дома поставь. Там одна бегает. Никак не доберусь до проклятой… Две пачки чаю слопала! Всухую! Без кипятка! Без варенья! Без сахара!
– Боишься, доберётся до твоих «двух косточек»[288]?
Он неподдельно вздохнул:
– «Двум косточкам» пришла кончита… Нетути пока… А вот водярка… Водочка постоянно блистательно присутствует! Водочка у меня не задерживается открытая… Ставь сперва дома.
– Дома мышка с высшим образованием. На маргусалинчик не купится. В сарае публика проще, голодней. Табунами носится.
– Ну что ж, круши мои табуны. Большое, неподъёмное спасибо заработаешь!
– Э не-ет, дорогуша! – смеюсь. – Спасибом не отбояришься. Даже за большое спасибо я не работник… Да на твоих табунчиках я в миллионеры влечу! Свою операцию я назвал «Мышонком – по Глебову карману!» Такса прежняя. Рупь штука!
Вяло махнув рукой, Глеб прошёл в дом.
Сразу к серванту.
– Что это!? – в растерянности показал он на открытую дверцу. Лакированная дверца была изурочена, из неё торчал ключ. – Какой багдадский воровайка сюда лазил? Или медвежатник шутил?.. Чья работка?
– Чья… Кто ж кроме тебя станет ломать дверцу, когда в ней ключ?
Навспех перелистал он новгородскую книгу. Ни рубля!
Схватил с обеих сторон за корешок, затряс. Выпал лишь один затёрханный листок-обтрёпыш. С винными долгами дружков. Брали всё на выпивку.
Солдат: 1.30 +
Помидор: 1 + 2.30
Хлебоед: 15 + 2 – 7 – 10 + 5
Невинный: 2
Лохматый: 3 + 2
Гнутый: 10 + 3
Гитара: 1.10 +
Хитрый: 1.30
Хиленький: 2
Честное Слово Отдам: 2 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 1.10 + 2
Оборвань: 0.50 + 0.72 + 0.40
По коням![289]:10 + 30 + 15 + 25
Летуче пробежал Глеб листок. Выронил из пониклых пальцев, но поднимать не стал.
Не вспомнилось ли ему всё вчерашнее: и проводины, и история с деньгами? Чего же их искать?
Лицо его сбелело. Вымертвилось.
Кажется, его обдало обмороком.
– В одну ночь стать… нищаком и сиротой… – пробормотал, не убирая остановившихся глаз с изувеченной дверцы.
Он машинально вынул из-под газеты – застилала дно ящика – сберкнижку, машинально пихнул к себе в карман фуфайки.
– Может, тут нагрянет один хиленький – дверь наша ему тесна! – ты так и скажи: подался Глеб в город. Надо…
– Но ты и смену не достоял!
– А мне теперь всё равно…
– Хоть бы переоделся. Какой город в таком виде?
Он только в досаде вздохнул и вышел нетвёрдым шагом.
Вскоре действительно прибежал с завода один хиленький. Толще и выше шкафа! Его цветущий вид говорил: я здоров как бык, не знаю, как и быть.
Это был Здоровцев, человек несуразного, гулливеровского, покроя, с толстыми красными щеками и немыслимого аппетита.
На свадьбе у Митрофана и Лизы Здоровцев столько пил и ел, что взяло кота поперёк живота, и у него лопнул желудок, лопнул самым натуральным образом. Сделали Здоровцеву четыре операции. Всё заросло, и его дуршлаг стал крепче прежнего.
Здоровцев был готов гулять на новой свадьбе хоть у чёрта.
Но его предусмотрительно не звали уже.
Наша дверь Здоровцеву была и низка и узка.
Топчась у порожка, он не мог заставить себя нагнуться и боком вдавиться в комнату. Затарабанил в окно. Я открыл ему дверь, пригласил войти. Он отрицательно закачал головой-шаром, хрипло прогудел:
– Глебку подавай! Начальство спрашивает!
– Глеб ушёл в город.
– Вот так краковяк! – всплеснул руками Здоровцев. – Полное выпирато! Меня, понимаешь, втёр… У меня ажник зубы вспотели!..[290] Ввертел меня в тюремную кашу, «завязал уши бантиком», а сам и ах в кусты! Куча смеха!
Закусив губу, он как-то отринуто задумался, напряжённо припоминая что-то своё, соображая вслух:
– А моть, к лучшему такой перепляс?.. И чего вгоряче бить яйцом скалу? Тихо-мирно достою его сменушку, останусь на свою. Гляди, начальство задобрится, спростит мне распроклятущий бидончик…
Перекипелый, с зябкой надеждой в лице отходил он от дома, ворча:
– А и поганая кость этот Глебка… А и поганая…
3
После обеда погода сломалась совсем.
В мелко и плотно сеявший дождь вмазалась, продралась крупа. Скоро крупу сменил снег, лохматый, ошмётьями.
Бел снег на чёрну землю, и то к лицу!
Не спеша, прочно ложилась снежная кидь на мокрую землю. Картина была редкая, дивная. Неторопливый радостный снег… Праздник глазу, праздник душе.
Не прошло и часу, как невесть откуда стеной навалился бесноватый ветер. Поднялась, застонала ведьмовская метель-завитуха, сдирая с коченеющей земли и вознося к небу молодой, нетвёрдый ещё снег.
Быстро стемнело.
Не зажигая света, весь вечер просидел я у печи.
Смотрел, как горел орешник, и слушал печальный вой ветра в трубе.
Уже при последних огнях в нашем порядке вернулся из города Глеб, включил на веранде лампу. Совершенно весь он был забит снегом и походил на привидение с вытянутым снежным комом в авоське.
Наверное, Глеб думал, что я сплю, и на пальчиках прокрался в угол веранды, к ширме, за которой бугрились мешки с зерном для кур и кабана. Я же, продолжая сидеть, не покидая уютного тепла печки, наблюдал за ним в полоску, – осталась от неплотно закрытых на окне занавесок.
Несколько раз Глеб осторожно тряхнул авоську.
Снег с неё свалился на цементный пол. В авоське я увидел пеструю обувную коробку и свёрток. Стоя ко мне спиной, Глеб переложил что-то из коробки, из свёртка к себе на грудь под фуфайку, сунул пустую коробку и бумагу за ширму на мешок и всё так же, на цыпочках, выскользнул во двор.
Перед сном Глеб часто проверял замки на сараях и сарайчиках. За тем, думалось, пошёл он и сейчас.
Но он взял не к сараям, а за дом и на низ, к центру села, к городу.
Я встрепенулся.
Какие могут быть дела на низу среди ночи?
Я накинул пальто, шапку и за ним.
Нас разделяли метров двадцать.
Может, окликнуть?
Мне почему-то не хочется этого делать.
Может, догнать? Не решаюсь и догонять.
Я держусь на одном расстоянии, тянусь следом, едва не падая под неистовыми ударами ветра.
Наконец я вижу: с тротуара Глеб срезал несколько влево, побрёл к покойницкой, что ютилась в тёмном подвале маленького одноэтажного домика из обшорканного давностью лет кирпича.
«Зачем он пихнулся в эту дуборезку?»
Я почувствовал холод в животе.
Притаился, примёрз за старым расклешнятым, полным тополем, так что если Глеб и оглянется, вряд ли заметит меня.
Вытянутый в нитку слух ловит придавленный лязг замка. Замок там висит всегда и никогда не закрывается на ключ.
Ржавый, жалобкий скрип двери…
Воровато и коротко полоснув взглядом по сторонам, Глеб боком втирается в жалкий чёрный отвор.
Боже… Там же мёртвая Катя!.. Как же…
До гибели боюсь я покойников. Днём не могу подойти к гробу на столе. Но вот так… чтоб в ночь… один…
Крутой страх сжимает меня тугими обручами, резко поворачивает и шальным шагом, с прибежью, гонит в обрат, домой, под невыразимо горькие плачи и стоны не то чёрной вьюги, не то человека.
Глава пятнадцатая
Быстрой речке тихую не догнать.
Всякая неудача – шаг к удаче.
1
А в Ольшанке между тем всё ласкалось, кажется, к доброй развязке. Несколько оправившись, налившись малой силой, мама затревожилась о выписке.
– Докторь, – просила на обходе Зою Фёдоровну, – выписали б…
– Выпишу, когда окончательно выздоровеете, – с уютной улыбкой отвечала Зоя Фёдоровна, и своим отказом повергала маму в тяжёлое недоумение.
Чего же тянуть, думалось ей, ведь здоровая, как есть здоровая! Я не спорю, плохая была, когда привезли. Что плохая, то плохая, вся прелая да гнилая, не могла усидеть на койке. А зараз чего держать в вашем царстве? Ем, хожу, хорошо сплю… Чего пролёживать бока? Чего придуриваться под больную?
Маме неловко оставаться дольше.
Прежде она лишь однажды лежала в больнице.
Ещё в войну.
А больше сильно не болела и во всякий день со света была на ногах. С первого света до полуночи (раньше не ложилась) – долгий переезд. Спроси, чем занималась, она надолго задумается и только в досаде махнёт рукой, так ничего в ответ и не вспомнив.
– День оттолклась… Ани минуты не сидела, не лежала… А шо такэ исделала, ей-бо, и не скажу. Шо в будни, шо в выходни… Выходного тоже не бачу. Я его жду, жду… А он через забор и нема его! От нахалюга! Одно слово, ох – крестьянский Бог.
Начнёшь вместе с нею по часам собирать её прожитый день, набегает гора переделанных безвидных дел. Годы её уклонные, кажется, какие особые хлопоты? Ан нет. То пока в огородчике покопается, то пока на низ слетает и по магазинам пробежится, то пока наварит, то пока постирает… Всё пустяки, всё так, вроде и всерьёз нельзя сказать, что при деле была. И была не была, а дня нету. Да что дня? Целой жизни нету! Нету и её как-то не видно. Хорошие года ушли, не простившись, старость накрыла, не спросившись…
На что ушла жизнь?
Мама вовсе не ответит. Только смутится ещё больше против того, когда спросишь, на что ушёл нынешний беготной день.
И вдруг вывалилась такая прорва пустого времени.
Больничное лежание она расценивает как постыдное и непристойное времяпрепровождение. Ей кажется, всех этих людей в одинаковых пижамах свезли сюда из окрестных деревнюшек на барский отдых.
Отдых сверх меры затянулся. Ей уже не с руки здесь ни есть, ни пить, она тяготится пребыванием в больнице и больше всего её убивает, когда приносят в палату обеды.
«Як барыне», – хмуро отмечает и видит в уходе за собой необъяснимый великий грех.
Она не может уже прямо смотреть нянечкам в лицо, приносящим еду, моющим полы. Прячет совестливые глаза и живёт надеждой от обхода до обхода. Ну, может, вот сегодня, вот, может, ну сегодня…
В обход она не пропустит так Зою Фёдоровну, чтоб с нарастающим недовольством не спросить одно и то же: когда выпишете?
Наконец Зоя Фёдоровна ответила ясно: через три дня.
Я пришёл уже после обхода.
Мама светилась радостью.
– Всё, сынок! Покончились твои страданья. Сказано бабке собираться через три дни додому! И правильно… Накурортничалась – до смерти хватит! Нема ничо тяжелей против пустой лёжки. Ну мýка!
В приоткрытую дверь всунулась голова простодушного старика в газетном колпаке.
Нюрушка, сидевшая за спицами, проворчала дежурное:
– А чтоб тебя в раны разбило!
Однако весело и стремительно сорвалась с койки, вышла.
Мы с мамой остались одни в палате.
Я спросил, был ли Митрофан.
– Був! – рдея, с вызовом ответила.
Я понял: не был.
– Да ты, сынок, ничо ему не кажи про мене. Не ругайтеся. Зараз токо и чуешь, дисциплина да дисциплина. Та дисциплина не токо рядовому, она и председателю указ. До мене ли ему? Ну вот крутни умом… У тебе в хозяйстви одна шарикова ручечка та блокнотик с ладошку. А у Митьки – полный колхоз. Скилько людей, скилько скоту, скилько машин и всему дай ума. Да его и без мене хлопоты заливают!
– Конечно, конечно… Шейка похудела, петельки порвала… Не пеше ж. На председательской вездебеге мог бы на минутку заскочить.
– Значит, не мог…
В её голосе, во всём её облике было что-то такое обиженное, виноватое, растерянное. Безусловно, она была б рада, привези Митрофан хоть на миг сюда свои глаза. Мать в больнице не грех и навестить. Ей от людей просто неловко, а так и не приезжай.
Так Митрофан и не ехал.
Значит, такая мать, корила она себя. Раз и в больницу сын не едет, значит, недостойна, значит, в воспитание сына не доложила чего-то, сама не доложила. Сама на себя теперь и пеняй, читалось в её лице, и потому мама оправдывала Митрофана, прикрывая его безумной занятостью.
– Ну ладно, пропустим Митрофана мимо. А она, она-то! Лизонька!
– А что Лиза? У Лизы то и делов, как раскатывать по больницам? У Лизы экзаменты. Это не шутки!
Да, у Лизы шла сессия. Заочно учится в техникуме, в Россоши. На экзамены ездит автобусом, одним днём оборачивается.
– А сегодня, – допираю, – Митрофан сам возил её на своей «Ниве». Могли б маленький кружок на обратном пути кинуть.
– Значит, не могли, – оправдательно жмётся мама. – Люди не могут… Как за это судить? Оно, конешно, в кружку не без душку… А потом, что ж я за барыня такая, чтоб через такую грязюку, через снега летели все ко мне на свиданку? И говорить не хочу! На что мешать людям? Ну на что? Вот вернусь через три дни, ото и все дела.
– Зоя Фёдоровна серьёзно пообещала через три дня отпустить?
– Врачица у нас серьёзна… Меня через три дни, а Нюрушку завтра. Комната у нас стахановська! Ты б, сынок, пошёл сказал Зое Фёдоровне за меня спасибо… Э-э, дырява память. Зовсим забула… Она ж тилько подалась по вызовам. Цэ надовго. Не до вечера ли…
2
Уже далече отшагал я от Ольшанки, когда возле меня остановилась вишнёвая «Нива» с открывающейся дверцей.
– Садитесь, нам по пути, – позвал мужчина лет тридцати шести.
Кроме него в машине никого не было. Я сел рядом.
Мы познакомились.
Это был Разлукин Николай Константинович, новый первый секретарь райкома. Возвращался из больницы, от матери, как и я, только с той разницей, что он ехал, а я бежал считал сухие с мороза кочки.
– Знаете, – окинув меня тёплым взглядом, просто заговорил он, – я много слышал о вас от своей матери. Как-никак, и ваша, и моя лежат в одной палате. Так что давайте без чинов… Вот что бы вы, семейный человек, посоветовали?
Я выслушал его, развесил губы, однако ничего толком так и не сказал.
Оно хоть и твердят, что все мы в чужом деле академики, да не всякую чужую беду мизинцем разнесёшь. Тем более, эта беда не беда, так и счастьем особенно не назовёшь.
А песня такая.
Речь шла о его матери. Покуда лежала в больнице, навёл с ней дружбу тот самый привязчивый королевич в газетной пилотке. Я видел его то нетерпеливо заглядывающим в палату к нашим матерям, как это было сперва, то уже смело вызывающим Нюрушку к себе на посиделки, как было сегодня.
И кончилось это тем, что выписывать старика, а он – молить Зою Фёдоровну. Вы уж потерпите-де малешко, всё одно места мужские в свободе киснут, дозвольте ещё побыть и выпишете, когда станете рассчитывать такую-то.
Зоя Фёдоровна, естественно, могла выписать и все концы. Не держать же в больнице здоровяка. А она… оставила.
Неопытное сердчишко охнуло, когда узнала, что старик совсем один.
Дети взрослые, развеялись по городам, и старик один не просто дома, один в своём доме на весь заколоченный досками хуторок Медовка. Последние хозяева ещё летом скочевали на центральную усадьбу, а старик не снялся, не поехал от своих пчёл, от своего родового гнезда, остался один.
И та, которую он назвал, тоже была одна на весь заколоченный уже хуторок Золотой.
Эти два умирающих хуторка стояли рядом.
Конечно, не стена в стену жили и эти два одиноких человека, жили близко, и вот больница совсем свела.
Старик молил Зою Фёдоровну оставить его на время, поскольку ему беспременно надо возвращаться домой только вместе со старухой.
И Зоя Фёдоровна согласилась в один день выписать обоих, чем вовсе затёрла в тупик старуху.
Старухе казалось, что всё то пустые разговоры, так, от больничной скуки колоколит дед без пути, а тут, поворачивается, не в одних словах сила.
Вчера что вошло на ум…
В подтверждение своих слов, что на всё дляради неё согласен, выкрикнул, глянувши в окно и увидавши пушной первый снег: зарадушки тебя готов хоть на край света, а сначалки по первой снежурке для тебя похожу босиком.
Завертелась Нюрушка, как сорока на колу:
«Чем ушибся, тем и лечись! Мне-то на кой твои расколбасы?»
Как отговаривала – упрямый хоть колуном по голове бей. Разувшись, потоптался-таки под окном. Никто кроме Нюрушки не видел. Иначе Зоя Фёдоровна, оставившая его сверх всяких порядков, непременно выставила бы его из больницы за такой выбрык.
Всё обошлось.
Посторонний глаз не видел, а Нюрушка запечалилась пуще прежнего, будто окатило её холодной водой. Больной, он и есть больной! Выписываться, да куда? Эта смола прикипела, не отодрать.
«Едем сразу прямо ко мне на мои меда!.. Доколе?.. Я один… Ты одна… Как палка в поле… Доколе?»
Ехала в больницу одна, смято думала Нюрушка, а из больницы – с таким же болящим? Да что ж я за зайчиха? В поле пошла одна, зато вернулась сама-друга, напару…
«Да он тебе хоть нравится?» – наосторожку спросил Николай.
Мать замахала на него руками:
«Наплетёшь! В трёх мешках не унести… Ну кто мне зараз может нравиться? Шестой же десяток молочу! Жа-алко, Колюшок… Вроде не пьёт, вроде не курит, вроде, по разговорам, хозяиновитой. Всё какой гвоздок забьёт… Не матершшинник ещё… Славный норовом, весёлый, как игривой кот, хлёсткий покуда на ногу… В полном уму, расторопный… Не то что оторви да брось… Последние дни всё в одну точку стучал: это не докторица, это ты меня так скоро подняла. Возле тебя я не болею. Цвету! В каком кине такое услышишь? А, думаю, пускай. Абы на страх мышам в дому мужиком попахивало, всё и мне на душе смелей… Ума не дам…»
«Переезжала бы ко мне в район».
«Ни в район к тебе, ни на центральну усадьбу, в пять этажищей скворешник, не пойду. У вас, у молодых, свои игрушки, у стариков свои… Как оставишь гнездо, где увидал свет?»
Какое-то время мы оба молчали.
Разлукин ждуще посматривал на меня.
Ну что я мог сказать ему в ответ на вопрос, заданный ему его матерью, следует ли ей выходить за больничного знакомца? Судить-рядить со стороны всё равно, что советовать солнцу вставать ему или подождать. В свой час оно само подымется. И у стариков всё должно бежать так, как хотят только эти двое.
3
Как мог, путано и ломано, объяснил я свою точку.
Разлукин горячо улыбнулся на мои слова.
– Я тоже так думал. Так и ляпнул, как сами решите, так и поступайте. И лучше будет. По крайней мере, не на кого будет валить в случае чего. Обыкновенная житейская история, да выворотила сколько нерешённых проблем. Неперспективные деревни… Неперспективные старики… На неперспективные деревни махнули, как на безнадёжных, неперспективных стариков, а эти неперспективные старики ещё такое затевают, ещё такое живёт в их душах, они ещё такое могут!.. Обычай уже оттёр их в разряд ушедших, бесперспективных, так зато они нам говорят: не спешите, рано отстёгиваете нас от жизни. И действительно, рано. Ведь смотрите, мать всё колеблется, как девочка, не даёт твёрдого ответа. Старик ей ультиматум. Знает, на что бить, вымогатель, на то, что ей его жалко. Говорит: если пойдёшь к себе на хутор одна, я увяжусь за тобой босиком по снегу. Нужен – неправда, сжалишься. А не нужен я тебе – так я и себе не нужон! Мне без тебя не жить. Мать сокрушается: «Как идти за такого? Он, раскати поле, в уме повредился». – «Из-за любви к тебе», – смеюсь… Бедная не знает, что и делать. Наверняка пожалеет. Вижу по ней, сольются в одну душу. А мы, увы, как смотрим на стариков? Нажил человек пенсию, вшатнулся в старость – всё! Жизнь проскочила! Ты неперспективный теперь жилец. Однако на поверку получается ой как не по-нашенски, точно с неперспективными сёлами.
Сёла, как и людей, нельзя делить на перспективные и неперспективные. Тем не менее… Дело это уже несколько отстоялось, и какую страшную картину мы увидели. Интересно, какой болван пасьянс этот раскладывал: перспективное, неперспективное? Кто именно всё это перспективил? Почему эта деревня перспективная, а вон та неперспективная? По какому принципу им приваривался тот или этот ярлык? Я считаю, весь этот делёж сёл вели головотяпство, тупость и лень. Сельцо маленькое, надо дорогу к нему, надо водопровод, надо клубишко, надо медпункт, надо магазинчик… Проще столкать мелкие деревеньки-хутора в одну кучу! Всё будет в одном кулаке! Оно-то, правда, всё в одном кулаке. Да не этот ли кулачина так грохнул по городским полкам, что они враз окончательно опустели? Не этот ли кулачина взашей вытолкал в города миллионы крестьян?
Бухнули в колокола, не глянув в святцы.
А глянь в святцы – спроси народ! – экой катавасии не было б. Давайте разложим по полочкам конкретный пример. Вот два колхоза, Суховерхова и вашего брата Митрофана. Колхозы соревнуются. Суховерхов гоняется за всем экзотическим, звонким. Этому надо поскорей да позвончей отрапортовать. Какую новенькую игрушку завидит в газете ли, в журнале ли – дай-подай сей же мент и мне! Как щурёнок, падок на всё блёсткое. Прокукарекал кто-то где-то на совещании про городские дома в селе – давай лепить. Скулёмил, по словам матери, на весь колхоз три пятиэтажных куреня из блоков и хошь не хошь езжай. Подгонит машину – грузись добром… Это пустому человеку легко. Что на нём, то и всё с ним. Встал – всё его с ним и поднялось. Встало. А мы, говорит мать, хоть и не богатецкого замеса, а всё ж как встанешь, не всё твое на тебе. И курочка в серёжках, и кочеток в сапожках, и уточка-такалка, и гусь-чевошник, и поросеночек-подросток, и коровушка не с кошку, и овечка-баловница, и криволапая молчан собака, Мурка-пустомойка… Животов полный свой колхоз, на пятый этаж не взопрёшь. Вот в чём закавыка! Вот почему народ с великой неохотью шёл в те дома!
А Митрофан ваш не кинулся на пятиэтажки-недоскрёбы, не навалился крушить и мелкие глубынь сёла. Живут люди, есть чем жить – живите. И разве он не строит? Побольше Суховерхова и поумней. Создал из старинных плотников бригаду. Нужна хоромина – давай чертёж, всё на твой вкус, и через две недели принимай на баланс персональный выставочный домок. С резьбой, с картинным крылечком… Праздник на всю жизнь. От Митрофана ни одна душа не уехала. Напротив. Городские напрашиваются к нему в «Родину». Из суховерховских же недоскрёбов бегут кто куда, просятся в митрофановские пятистенки. Поближе к земле. Дошло даже до курьёза. Моя мать, как я узнал из её рассказа к случаю уже в больнице, наотрез отказалась забираться в «скворешник» и поклонилась Митрофану, умолила, чтоб родинские маги и волшебники сладили ей домец, пускай тесный – кошка ляжет, хвоста негде протянуть, – абы до дна добрать свой век на своём же хуторке. Представьте положение брата. Тогда меня ещё здесь не было, не могло быть и речи, что угодил он моей матери с какими-либо корыстными завитушками. Неслыханно! Одинокой старушке вывести дом в чужом, в соседнем колхозе. Он как бы бросал вызов Суховерхову. Вот-де ты запечатал людей на верхотуре, точно каторжанцев, не видят они у себя под окнами ни лучка, ни огурчика, а я рублю своим такие обычные, веками проверенные земные дома в усадьбах, и посмотрим, друже, чей век окажется дольше.
Скоро схлынула волна на конвейерные многоэтажики, заговорили о перспективности неперспективных сёл и рады, что ещё не все малые свели села. Глупо, ой как глупо запахивать их! Да отсеки у Волги малые речушки, ручейки-бормотуны, ключи – уцелеет от Волги лишь сухое её ложе мёртвое. А тут – убрать малые села! Да малые села держали и ещё до-олго будут держать продуктами город.
4
– Но вот, – продолжал Разлукин, – что дальше? Суховерхова-то возносили до небес за пятиэтажки и уклончиво помалкивают сейчас, когда они наполовину пусты, поскольку многие их жители в открытую подались в города, другие, не пожелав уйти с земли, перекинулись в соседние хозяйства, в человеческие дома. Суховерховский «Ветхарь» скатился в самые низы районных сводок.



