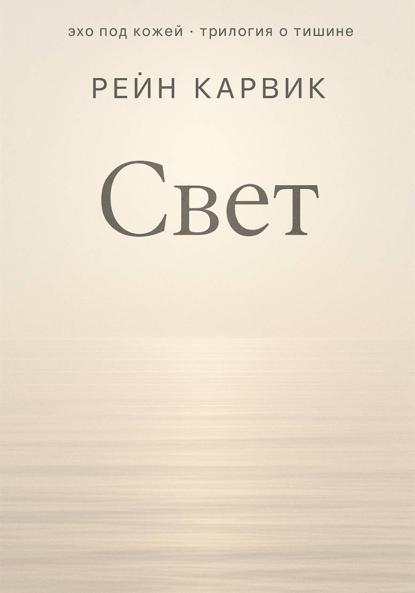
Полная версия:
Свет
Мальчик в этот момент действительно смотрел туда – не жадно, не восхищённо, а пристально, как если бы пытался запомнить не картинку, а сам звук, который она издаёт.
Я знала по себе: так смотрят люди, для которых море – не декорация.
– Если хотите, можете подождать его здесь, – сказала я женщине. – Или в городке, урок длится около часа.
Она колебалась. Я видела, как в ней сражаются две силы: желание контролировать всё, что происходит с ребёнком, и усталость, которая в какой-то момент начинает уступать место доверию просто потому, что любая пауза становится спасением.
– Я… пройдусь, – наконец сказала она. – Вы не против?
– Конечно, – ответила я. – Здесь тихо.
«Иногда слишком», – мысленно добавила, но вслух произносить не стала.
Когда дверь за ней закрылась, дом снова оказался только с нами двумя.
Мальчик стоял немного в стороне от пианино, словно ждал, когда его пригласят ближе.
– Ты занимался раньше? – спросила я.
Он кивнул.
– Немного. В городе.
Голос был ниже, чем я ожидала для двенадцати лет, но очень ровный, без привычных перепадов подростков. И в нём было то, что заставило меня на мгновение задержать дыхание: лёгкая, но отчётливая пауза перед каждым ответом.
Как будто он сначала произносил фразу внутри, проверял, как она звучит, и только потом выпускал её в воздух.
Я знала ещё одного человека, который так делал.
– Какой город? – спросила я, чтобы вытянуть этот момент, не давая себе времени уйти в ассоциации.
Он назвал название – чужое, к моему прошлому не имеющее никакого отношения. И это было даже хорошо.
– Пойдём, – я кивнула в сторону комнаты. – Покажешь, что помнишь.
Он подошёл к пианино неожиданно уверенно. Не как большинство детей, которые или бросаются к клавишам, или, наоборот, держатся от них на расстоянии. Его движение было размеренным, как у человека, который уже знает, что звук – это не игрушка, а ответственность.
Я поймала себя на том, что смотрю не на него, а на его руки.
Тонкие пальцы, чуть длиннее обычного, крепкие суставы, лёгкая костлявость. Когда он сел, кисти легли на колени – расслабленно, но с какой-то внутренней собранностью.
И жест этот был настолько знаком, что воздух внутри меня на секунду стал плотнее.
Так сидел он.
Касаясь колен ладонями, прежде чем положить их на клавиши. Проверяя не инструмент, а себя – готов ли.
Я заставила себя дышать ровно.
Это всего лишь жест. Всего лишь привычка. Случайное совпадение.
– Можешь сыграть гамму, любую, в которой ты уверен, – сказала я.
Он кивнул. Посмотрел на клавиши так, как смотрят на дорогу, по которой уже ходили много раз. Пальцы лёгко легли на белые клавиши. И зазвучала до-мажорная гамма – очень аккуратная, с правильной аппликатурой, как учили в любом музыкальном классе.
Ни одной лишней эмоции.
Только звук.
И всё равно в том, как он вёл пальцы, было что-то… неторопливо-уточняющее. Как будто он не повторял заученные упражнения, а каждую ноту произносил заново, пробуя её на вкус.
Я слушала и думала, что в другой жизни, где не было бы всех этих отражений, я, возможно, просто радовалась бы хорошей постановке рук.
Но я жила не в той жизни.
И память во мне отзывалась не на правильность, а на интонацию.
– Хорошо, – сказала я, когда он закончил. – А теперь что-нибудь, что ты любишь. Неважно, насколько сложно.
Он задумался. Я увидела, как в его взгляде на секунду мелькнуло что-то похожее на растерянность, почти страх – как будто я попросила его показать не музыку, а себя.
– Я… – он чуть нахмурился. – Я иногда… сочиняю. Но это… не совсем…
Он запутался в словах.
И опять – очень знакомо.
«Не совсем музыка», – хотела подсказать я. Так когда-то говорил один человек, оправдывая свои наброски. Как будто для того, чтобы что-то было настоящим, оно должно обязательно соответствовать чьим-то правилам.
– Если хочешь, можешь сыграть, – сказала я тихо. – Здесь не обязательно называть это.
Он посмотрел на меня – прямо, внимательно. В этом взгляде было что-то взрослое: проверка, действительно ли я говорю то, что говорю, или за моими словами есть привычная взрослым ловушка.
Потом кивнул.
– Ладно. Но это… незаконченно.
Я улыбнулась краем губ.
Быть незавершённым – иногда единственный честный способ существования для музыки.
Он положил руки на клавиши иначе, чем до этого. Гаммы он играл пальцами ученика. Сейчас в его движении появилось что-то своё, тактильное. Как если бы он не просто касался клавиш, а пробовал ими пространство.
Первые ноты были тихими, почти несмелыми – как шаги на незнакомом полу. Простая последовательность, ничего особенного. Но уже в третьем такте я почувствовала, как внутри меня что-то дернулось.
Не узнавание.
Признание.
Не тем, что звучало, а тем, как.
В каждой паузе между нотами было больше смысла, чем в самих нотах. Он оставлял крошечные, едва заметные промежутки – на полдыхания длиннее, чем ожидалось. Для стороннего слуха это могло казаться просто неуверенностью. Для меня – было почерком.
Музыка шла, как будто он разговаривал с кем-то, кто сидит чуть дальше комнаты, за линией слышимости. Низкие звуки не давили, а поддерживали. Высокие – не стремились блеснуть, а осторожно касались воздуха, проверяя, выдержит ли он.
Я ловила себя на том, что перестала замечать дом, море, даже собственное дыхание. Всё сузилось до этих рук, до этих пауз, до того, как звук, едва родившись, уже становился чем-то больше, чем просто колебанием воздуха.
Я очень хорошо знала человека, который так мог.
Слишком хорошо, чтобы позволить себе назвать это совпадением.
И всё же, пока он играл, я старалась не думать ни о ком, кроме него – мальчика, сидящего передо мной.
Мирон. Двенадцать лет. Чужой город за плечами. Новая жизнь у моря.
Я дала музыке закончиться.
Она не закончилась формально – он просто остановился на очередном аккорде и не пошёл дальше. Словно сам не знал, что должно быть дальше, но чувствовал, что именно здесь пока – граница.
Руки его замерли над клавишами.
Я услышала, как в комнате медленно возвращаются звуки дома: лёгкий треск дерева, далёкий шум прибоя, шорох ветра за окном.
– Это твоё? – спросила я, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно.
Он кивнул.
– Иногда… она сама приходит, – сказал он и вдруг потёр пальцами кончик носа – детское движение, не совпадающее с взрослостью его взгляда. – Я пытаюсь записать, но всё время получается по-разному.
«Конечно, – подумала я. – Так и должно быть».
Внутри меня одновременно жило два чувства.
Одно – чистое, простое: радость за ребёнка, который умеет слышать что-то своё и не боится пробовать это выразить.
Другое – тяжёлое, вязкое: то самое тянущее ощущение, когда прошлое, которое ты считал отделённым, вдруг показывает тебе свой силуэт в новом свете.
Я сидела рядом с ним и понимала: мир, который стал слишком гладким, сделал шаг в сторону глубины.
Не потому, что дом снова начал шептать.
Потому что в моей двери появился мальчик с глазами, в которых отражение звучало так, будто они уже видели другую меня.
Я не сразу поняла, что именно меня тревожит: музыка ли, произнесённое им «сама приходит» или то, как он смотрел на тишину после последней ноты – будто слушал не её, а отклик, который не успел догнать звук.
Есть моменты, когда мир слегка смещается – не настолько, чтобы это можно было назвать чудом или угрозой, но достаточно, чтобы ты внезапно почувствовал невидимый ток под кожей реальности. С ним это случилось без грома, без вспышек, без драматического жеста. Просто в комнате стало… гуще.
– Это хорошо, – сказала я, когда пауза стала слишком плотной, и слово само нашло выход. – Очень живое.
Он не улыбнулся – как это делают многие дети, когда слышат похвалу, – только чуть-чуть склонил голову, будто прислушивался к самому слову, проверяя, искреннее ли оно.
– Ты правда так думаешь? – спокойно, почти взрослым тоном.
Я кивнула.
– Думаю. Но мне интересно – когда она к тебе приходит?
Он посмотрел в окно. Туда, где море тонкой серебряной линией текло вдоль края света. На мгновение я увидела в его лице то странное выражение, которое бывает у людей, для которых звук – не просто вещь, а способ существования.
– Когда тихо, – сказал он. – Не когда никто не разговаривает. А когда… пусто внутри.
Это было слишком точное слово для двенадцатилетнего мальчика.
Я почувствовала, как где-то внутри меня отозвалась память – не образами, а тем особым ощущением внутренней пустоты, которая когда-то была моей единственной формой дыхания.
– И ты не боишься этой пустоты? – спросила я осторожно.
Он слегка пожал плечами.
– Я раньше боялся. Казалось, будто… в ней можно провалиться. Но потом понял, что если её слушать, она не проваливает. Она… отвечает.
Эти слова прозвучали с такой тихой уверенностью, что я невольно отвела взгляд.
Дом молчал. Но это молчание уже не казалось нейтральным. Оно было внимательным, собранным, как тишина в концертном зале перед тем, как дирижёр поднимет руку.
Я знала, что нельзя делать поспешных выводов. Во мне ещё жила осторожность – та самая, которой я научилась после того, как реальность слишком долго занималась тем, чтобы подсовывать мне зеркала, где я видела не то, что хотела. Я знала, как легко можно ошибиться, подменить настоящее прошлым, уловить совпадение и назвать его судьбой, услышать echo и принять за голос.
И всё равно что-то во мне медленно поднималось на поверхность – как тень, припозднившаяся в полдень.
Мы продолжили урок.
Я попросила его сыграть ещё несколько упражнений, пройтись по простым пьесам, которые обычно показывают, насколько устойчив человек в звуке. Он играл хорошо, но не это было главным. Главное – то, как он относился к паузам.
Дети обычно боятся тишины между нотами. Считают её провалом, ошибкой, местом, где их могут поймать. Мирон тишины не боялся. Он смотрел на неё, как на равного партнёра. Он оставлял ей место. Он доверял ей.
И это было… не детским.
– У тебя хороший слух, – сказала я в какой-то момент. – И… редкая внимательность к тому, чего нет.
Он на секунду задумался. Видно было, что он услышал именно вторую часть фразы.
– Мама говорит, что я слишком много думаю, – тихо сказал он. – Я просто… слышу.
«Да, – подумала я, – именно это и страшно».
Я знала цену слышания.
Я знала, как легко оно становится ловушкой, как из способности быть ближе к миру оно превращается в способ быть дальше от себя. Я знала, как из дара оно становится зависимостью: слышать – значит существовать, а когда мир замолкает, пропадает и ты.
Я смотрела на этого мальчика и впервые за долгое время почувствовала что-то, похожее на страх. Не за себя – за него.
И – честно – немного за ту часть себя, которая вдруг начала отзываться на него слишком живо.
– Мирон, – сказала я мягко. – Если тебе когда-нибудь станет… слишком шумно внутри или наоборот – слишком тихо, ты можешь говорить об этом. Не обязательно со мной. Просто с кем-то, кто умеет слушать. Не оставляй это только себе.
Он посмотрел на меня снова тем взрослым взглядом, который никак не вязался с его возрастом.
– Я не один, – сказал он просто. – Музыка всегда говорит со мной.
И вот тогда внутри меня на секунду всё оборвалось.
Потому что когда-то я сама говорила примерно так.
Музыка как собеседник. Звук как присутствие. Тишина как граница между жизнью и исчезновением.
Я знала, к чему это может привести, если однажды этот «собеседник» перестанет отвечать или станет говорить слишком громко.
Я кивнула, не позволяя этому тревожному знанию проступить на лице.
– Музыка – да, – сказала я осторожно. – Но иногда и музыке нужен свидетель. Тот, кто подтвердит, что она звучит не только внутри тебя.
Он кивнул. Но я почувствовала – он пока не понял. И не обязан был понимать. Это понимание приходит позже, когда мир однажды становится слишком честным.
Мы сделали перерыв.
Он встал из-за пианино, прошёлся вдоль комнаты, остановился у окна. Не прижался к стеклу, не потянулся к свету – просто стоял, как человек, который выходит на берег своего внутреннего моря и смотрит вдаль не для того, чтобы что-то увидеть, а чтобы не потерять линию горизонта.
– У вас тут тихо, – вдруг сказал он.
– Да, – ответила я. – Здесь так уже год.
– И… как вам?
Вопрос был простым и невозможным одновременно.
Взрослые редко спрашивают так. Обычно спрашивают иначе: «Нравится ли вам здесь?» «Не скучно?» «Не тяжело?» Этот вопрос был глубже.
Я задумалась.
– По-разному, – честно сказала я. – Иногда это как подарок. Иногда – как зеркало.
– От которого трудно отвести взгляд, – спокойно закончил он, будто знал.
Я посмотрела на него внимательнее.
Я снова увидела тот странный свет в его глазах – не мистический, не «иностранный», а внутренний. Свет человека, который слишком рано научился смотреть не только вперёд, но и внутрь.
Это опасный дар.
И иногда – единственный способ выжить.
Мы вернулись к инструменту. Я дала ему ещё одну простую пьесу – проверку на ритм, на дыхание, на умение держать линию. Он справился. Иногда сбивался – не потому что не знал, а потому что слишком много слышал. Его внимание было шире клавиатуры. Он слушал не только то, что делали его пальцы, но и то, как это вписывается в воздух комнаты.
Это умение невозможно научить. С ним либо рождаются, либо его выстрадывают.
Когда урок подошёл к концу, я почувствовала лёгкую усталость – не физическую, не эмоциональную, а ту особую, которая приходит, когда в твоё тихое пространство входит кто-то, кто не просто приносит с собой звук, а немного меняет саму структуру тишины.
Я сказала ему, что он талантлив, но нам нужно работать над уверенной опорой, над тем, чтобы не растворяться в паузах полностью. Он слушал очень внимательно, почти серьёзно, как взрослый студент.
– Я постараюсь, – сказал он. – Мне… интересно.
В этот момент в доме снова прозвенел звонок – мягче, чем в начале, словно пространство уже привыкло к его голосу. Это была мать.
Когда она вошла, её лицо расслабилось, увидев его спокойным. Она бросила короткий, изучающий взгляд на меня – не недоверчивый, скорее благодарный за то, что мир её сына хотя бы на час оказался понятным кому-то ещё.
– Как прошло? – спросила она у него.
– Нормально, – ответил он. И после паузы добавил: – Хорошо.
Она улыбнулась.
Мы договорились о следующем занятии. Она поблагодарила, он тихо сказал: «До свидания», так, как говорят не из вежливости, а потому что слово действительно что-то означает.
Когда дверь закрылась, дом снова стал моим.
Но это уже был немного другой дом.
Не потому что стены ожили или зеркало дрогнуло. Всё оставалось прежним. И всё было чуть-чуть сдвинуто.
Как будто внутренняя поверхность реальности чуть прогнулась, принимая новый вес.
Я прошла в комнату, где ещё тёплым оставалось пианино. Села на стул, не касаясь клавиш.
Закрыла глаза.
И вдруг услышала – очень отчётливо – не звук, не голос, не шёпот. Скорее воспоминание о ритме, который когда-то жил во мне и во всём вокруг: тот особенный ритм, где тишина всегда была не концом, а обещанием продолжения.
Я открыла глаза.
Нет.
Дом молчал. Море звучало как всегда.
Это не он вернулся. Не город. Не прошлое.
Это во мне что-то откликнулось.
И я поняла: когда реальность становится слишком гладкой, прошлое не возвращается громко. Оно приходит тихо. В чужих руках. В чужом взгляде. В чужой, ещё не до конца рождённой музыке.
В мальчике по имени Мирон, который сказал, что тишина отвечает, – и сказал это так, как будто уже однажды слышал.
Вечером, когда дом снова стал тихим и все дневные шаги растворились в древесине пола, я долго ходила из комнаты в комнату, будто пытаясь нащупать новое звучание пространства. Ничего не изменилось – и всё изменилось. Я знала, как обманчивы бывают такие ощущения, как легко вообразить смысл там, где просто совпало дыхание мира и собственной памяти. И всё же внутри меня не проходило странное ощущение: как если бы на поверхности воды, которую я так долго считала неподвижной, вдруг обозначился едва заметный круг – след того, что к ней прикоснулись.
Я села у пианино, не собираясь играть. Просто положила руки на крышку, как кладут ладонь на плечо живому существу, проверяя, дышит ли оно. Инструмент был тёплым – остаточное тепло сегодняшних прикосновений, в которых была не только музыка, но и его, Мирона, присутствие. Я закрыла глаза и позволила этому ощущению пройти через меня.
Не звук – память звука.
Не воспоминание – предчувствие.
И ещё – лёгкий, почти невесомый страх, от которого я давно отвыкла: страх, что мир снова может стать многослойным. Что под ровной линией реальности опять есть глубина, и она не намерена оставаться просто геологическим фактом.
Мне казалось, я уже научилась жить без ожидания чуда ― как без боли, так и без магии. Но чудо не всегда приходит как свет. Иногда оно приходит как тревога.
Я сплю плохо в такие ночи.
Не потому, что пугаюсь; потому что внутреннее ухо продолжает слушать, даже когда внешние звуки давно стихли. Море шумело ровно, уверенно. Дом дышал спокойно. А внутри меня шёл какой-то медленный разговор, смысл которого я пока не могла разобрать, будто кто-то говорил из другой комнаты, а слова доходили только обрывками интонаций.
И всё равно утро я встретила спокойно.
Тело помнит привычку жить. Оно знает, как включаться в день, даже когда внутри остаётся неразрешённая тишина. Я заварила чай, открыла окно, впустила свет. Дом не изменился. Море – тоже. И я решила, что позволю этому ощущению прожить во мне столько, сколько ему нужно, без попыток объяснить.
Потом пришли дни, заполненные делами. Уроки, дорога в городок и обратно, редкие разговоры с соседями, письма читателей, иногда всё ещё приходящие неожиданно, как тени прошлого, позабывшие свой адрес. Жизнь снова выровнялась. И всё же где-то на её поверхности сохранялась тонкая напряжённая плёнка ожидания.
Я знала, что оно вернётся.
И оно вернулось. Не громко, не торжественно. Очень обычно. В будничный день, под мягким дневным светом, когда ничто, казалось, не предвещало никаких внутренних сдвигов.
Он пришёл на следующий урок – такой же спокойный, чуть сосредоточенный, почти закрытый. Мать оставила его у порога, сказав короткое: «Я буду через час», – и исчезла за дверью, как исчезают люди, привыкшие доверять только времени, а не миру.
Мы начали, как обычно, с простых упражнений. Его пальцы стали увереннее. Тон – устойчивее. Но внимательнее всего я слушала не то, что он играл, а то, что происходило между звуками.
И тишина между ними, как и прежде, не проваливалась. Она дышала.
Мы закончили очередную пьесу, и я уже собиралась предложить следующую, как он вдруг сам тихо, почти неуверенно сказал:
– Можно… я кое-что покажу?
Я остановилась.
– Конечно.
Он немного помолчал, словно взвешивал – можно ли доверить миру то, что до этого существовало только внутри него. Потом сел ровнее, вдохнул глубже, как дышат перед прыжком, и положил руки на клавиши – неуверенно и в то же время так, как прикасаются к чему-то дорогостоящему, чему можно причинить боль, если быть слишком грубым.
И начал играть.
Это не было то, что он показывал в прошлый раз. Это было другое – ближе. Личнее. Слишком прозрачное для ребёнка, слишком честное для взрослого. Музыка шла, как вода, тихо и упрямо, почти не повышая голоса. В ней было движение, но без стремления куда-то прийти; было ощущение дороги, у которой нет видимой цели, кроме самой дороги.
Я слушала – и чувствовала, как внутри меня начинает откликаться то, что я так долго училась утихомиривать.
Это было… не его.
И не моё.
И не чужое.
Это было что-то между.
Каждая фраза звучала как шаг в сторону памяти, но не моей – какой-то общей, безличной, но странно интимной. Звук ложился на комнату мягко, как свет, и в то же время по коже пробегал холодок того самого ощущения нестабильной реальности, когда мир вдруг начинает звучать чуть глубже, чем до этого.
Потом прозвучал поворот.
Тот самый, которого я боялась и в то же время ждала – тихий, почти незаметный сдвиг мотива, что-то знакомое, но не до конца. Как будто мелодия вспомнила сама себя.
И я вдруг поняла.
Я знала это.
Не ноты ― состояние. Не тему ― дыхание.
Это было не из мира учебников, не из репертуара, не из чужих композиторов. Это было из того внутреннего пространства, где когда-то жила моя собственная, слишком личная музыка. Та, которой я не делилась. Та, которую слышал только он.
Тело отреагировало раньше сознания. В груди стало тесно. Воздух стал тяжелее. Руки невольно сжались.
Но я не остановила его.
Я слушала до конца – до той мягкой, неуверенной паузы, в которой всегда оставлялось место для продолжения, но этого продолжения пока ещё не существовало. Он опустил руки. Комната медленно догнала тишину.
– Это… – голос мой прозвучал тише, чем я ожидала. – Это ты сочинил?
Он посмотрел на меня спокойно. Очень спокойно. Слишком спокойно.
– Нет, – сказал он. – Это… твоя.
Слова прозвучали так просто, как будто называли цвет стены. Без мистики. Без намерения поразить. Просто факт.
– Моя? – я почувствовала, как во мне всё напряглось, но снаружи постаралась сохранить ровность. – Откуда ты это знаешь?
Он не смутился. Не растерялся. Не стал оправдываться. Только чуть прищурился – так он делал, когда пытался подобрать точное слово.
– Она… чувствуется как ты, – произнёс он. – Такая… будто тихая, но на самом деле держит многое внутри. И… – он замолчал, пальцы его на мгновение снова коснулись клавиш, как будто музыка помогала думать, – и в ней есть место для боли, но она не даёт ей говорить первой.
Я не могла сразу ответить.
Потому что это было точнее любых нот.
Я смотрела на него и пыталась понять – откуда. Как. Почему. Я не учила никого этой музыке. Я не играла её годами. Я оставила её там – в другом времени, в других стенах, в другом мире звука. И всё же она вернулась.
– Где ты её услышал? – спросила я наконец.
Он пожал плечами очень спокойно.
– Не слышал. Она… была у меня в голове. Как… если бы она всегда там была, просто раньше молчала.
«Она была у меня в голове.»
Эти слова, произнесённые детским голосом с такой простой уверенностью, прозвучали страшнее любого шёпота из прошлого.
Я сидела рядом с ним и чувствовала, как внутри меня медленно встаёт та часть, которую я так долго укладывала спать.
– Мирон… – я осторожно вздохнула. – Ты уверен?..
Он посмотрел на меня так, как смотрят не дети.
– Иногда то, что в голове, – не из головы, – сказал он. – Иногда – из… – он искал, как это назвать, и вдруг тихо добавил: – из тишины.
И в этот момент море ударило о берег чуть громче обычного. Не бурей, не предупреждением – просто так совпало. Но звук пришёл так вовремя, что внутри всё дрогнуло.
Дом молчал. Зеркало в коридоре было на своём месте. Стены не дышали. Мир не ломался. Ничего сверхъестественного не произошло.
И всё же в воздухе возникло то напряжение, которое я хорошо знала: когда реальность не меняется – меняется глубина её звучания.
Прошлое не вернулось.
Оно не умеет возвращаться в прежнем обличье. Оно умнее. Оно приходит иначе – не как повторение, а как отражение. В новом теле. В новом голосе. В новой музыке, которая помнит больше, чем должна.
Я смотрела на мальчика, на его слишком взрослые глаза, на тонкие пальцы, которые только что прикасались к моей тишине так, будто она всегда была его частью, – и понимала: с этого момента здесь уже нельзя будет жить так, как прежде.
Потому что иногда мир не спрашивает, готов ли ты.
Иногда он просто тихо ставит перед тобой отражение – и ждёт, осмелишься ли ты смотреть.
Глава 3. Зеркала в детских рисунках.
Все дети что-то приносят с собой помимо тетрадей и нот.
Кто-то – шум: громкий, беспорядочный, как маленький персональный оркестр, который всё время играет не в такт миру. Кто-то – тишину: плотную, настороженную, с обидой на звук. Кто-то – запахи: сладкий шлейф дешёвых духов матери, табак от отца, краску от школьного кабинета труда.
Мирон приносил в дом… линии.
Я не сразу это поняла. Сначала мне казалось, что он просто один из тех детей, кто любит рисовать на полях тетради. Таких много: пока руки делают одно, голова требует другого выхода, и карандаш сам находит себе работу. Но с Мироном было иначе. Его линии не были от скуки. Они были от внимания.
В тот день море было особенно тихим – ровная, почти стеклянная поверхность, в которой не отражалось ничего, кроме тусклого неба. Дом тоже будто немного выровнялся изнутри: ни скрипа, ни случайного вздоха дерева, даже часы в углу тикали более ровно, чем обычно.



