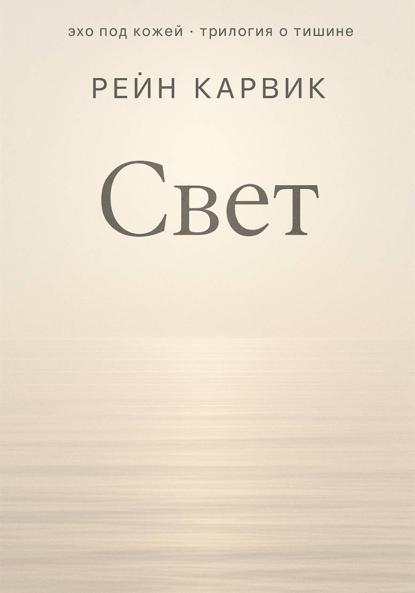
Полная версия:
Свет
Тогда каждый след для меня был доказательством: дом помнит.
Сейчас эти отметины просто… есть.
Я не уверена, когда именно произошёл перелом. Не могу назвать день, когда шёпот дома стал обычным скрипом, а отражения – обычным светом. Это не было внезапным отключением света или хлопком двери. Скорее – медленным затиханием музыки, когда оркестр уходит со сцены по одному, и в какой-то момент ты понимаешь: последнюю ноту уже сыграли, а ты всё ещё стоишь и ждёшь продолжения.
Мне иногда кажется, что я опоздала на собственный финальный аккорд.
Часы в углу отсчитывают время упрямо, с лёгким опережением – они всегда спешат на две минуты. Я так и не исправила это. Пусть хотя бы они выбиваются из общего ритма.
Через пару часов придут ученики. Дом наполнится голосами, смехом, робкими и уверенными звуками фортепиано. Я буду сидеть рядом, слушать, поправлять, аккомпанировать. Музыка в этом доме снова будет звучать вслух – не только внутри моей головы.
Это помогает.
Но есть моменты – раннее утро, поздний вечер, – когда дом снова остаётся только моим. И тогда поверх всего привычного вдруг проступает что-то похожее на… вакуум.
Не пустота, нет. Пустота – это когда нет ничего.
А здесь есть всё: мебель, книги, записки, ноты, кружки, слегка расстроенное пианино, старые фотографии, новые тетради учеников, мои вещи, чужие мелочи, забытые кем-то в спешке. Но всё это как будто покрыто тонким стеклом.
Реальность стала витриной.
Я вижу каждую деталь, но не всегда чувствую, что могу до неё дотянуться.
Двигаться и жить – получается. Трогать – иногда. Проживать – не всегда.
За последний год я научилась делать всё правильно.
Правильно говорить с людьми. Правильно отвечать на письма. Правильно принимать благодарность за книгу, которую всё ещё время от времени перечитывают где-то далеко, в городах, где я уже не живу. Правильно улыбаться, когда кто-то говорит: «Ваша история помогла мне», – и не говорить вслух, что я сама ещё не до конца понимаю, чем именно она помогла мне.
Я научилась не искать подвоха в тишине. Не ждать, что за углом послышится чужой шаг, не проверять каждое отражение.
Это и есть выздоровление, если верить людям, знающим, как правильно устроена жизнь после травмы.
Но никто не предупредил, что после долгой войны со своими отражениями может начаться странный мир – такой, где никто больше не нападает, но оружие всё ещё лежит под рукой, и ты не знаешь, куда его девать.
Иногда мне не хватает… глубины.
Нет, не той, в которой можно утонуть. Эту глубину я знаю слишком хорошо. А другой – безопасной, как тёмная вода, в которую опускаешь руку, не боясь, что тебя схватят за пальцы.
Реальность стала слишком гладкой. Кажется, что в ней больше нет щелей, через которые просачивались бы чудеса, даже страшные.
Я поднимаюсь из-за стола и подхожу к пианино.
Оно стоит на своём месте, как всегда. Чёрный корпус слегка потерял блеск, но от этого стал роднее. По крышке можно провести рукой, не опасаясь, что пыль взлетит облаком – я стала аккуратнее к нему относиться, чем раньше.
Я открываю крышку, и знакомый запах дерева и лака доносится до меня даже через год.
Каждый раз, когда я поднимаю эту крышку, где-то внутри ждёт маленький страх: а вдруг сейчас случится то, что случалось раньше? Вдруг одна нота зазвучит не так, как я её нажала? Вдруг аккорд продолжится, когда пальцы уже останутся в воздухе?
Но клавиши лежат смирно.
Я сажусь, пробую одну ноту, другую. Звучит ровно, честно, даже немного грубо – инструмент просит настройки, но без капризов.
Музыка в этом доме больше не живёт отдельной жизнью.
Она отзывается только на мои пальцы или на детские ладони, которые робко, с ошибками, ищут нужный звук.
Иногда, в такие утра, я играю что-то для себя. Не то, что написала, и не то, что помню наизусть, – просто позволяю рукам двигаться, как им хочется. Звучат обрывки мелодий, чужих и своих, повторы, паузы. Важно не то, что я играю, а факт, что звук всё ещё живёт во мне, а не только в воспоминании.
Сегодня мне не хочется музыки.
Я закрываю крышку, ладонь некоторое время остаётся на тёплом дереве.
Дом молчит. Не обижается, не требует, не подталкивает к клавишам.
Иногда мне кажется, что он выдохнул, когда вся эта странная история с отражениями закончилась. Как будто ему тоже пришлось пережить свою часть этого безумия, и теперь он не хочет возвращаться к ней так же, как и я.
Я понимаю его.
И всё же…
Иногда, по ночам, когда я просыпаюсь от собственных снов, мне мерещится тот прежний дом – не в прошлом, не в ином мире, а здесь же, поверх этого. Как будто есть две реальности: одна, где стены дышат вместе со мной, и другая, где стены просто держат крышу.
Сейчас, утром, в ясном свете, в запахе чая и моря, побеждает вторая.
Я надеваю куртку, выхожу на крыльцо.
Воздух обдаёт прохладой. Небо чистое, только у горизонта висит тонкая полоса тумана – напоминание о ночи. Море спокойное, с редкими всплесками, которые больше похожи на невнятные жесты, чем на речь.
Я стою на ступеньке и какое-то время просто смотрю.
Раньше мне казалось, что мир снаружи и мир внутри дома – две разные сцены. Теперь они стали больше похожи друг на друга. Ни там, ни здесь ничего не шепчет.
Это должно было бы приносить облегчение.
И приносит.
Просто вместе с ним приходит ещё кое-что – ощущение, что мир словно прикрутили на полтона ниже.
Все звуки стали безопаснее.
И чуть менее настоящими.
Ближе к полудню в доме обычно появляется звук. Не тот особенный – не внутренний, не «домашний», – а человеческий, живой, с шероховатостью дыхания и лёгким дрожанием ожидания. Это звук шагов по крыльцу, голосов на пороге, неловких пауз, которые дети делают перед тем, как войти в пространство, где всё ещё остался оттенок истории, о которой им никто не рассказывает, но которую они чувствуют кожей.
Я привыкла к этим шагам.
Каждый ребёнок вступает в дом по-своему. Кто-то смело – с шумом, с резким вдохом, как будто хочет сразу заполнить собой каждую комнату. Кто-то осторожно – снимая обувь так медленно, словно боится потревожить доски. Некоторые смотрят по сторонам слишком внимательно, словно ищут подтверждение слухам: правда ли здесь раньше… было другое?
Никто не спрашивает.
И я не объясняю.
Я встречаю их просто: «Заходи», – и слегка киваю в сторону комнаты с пианино. Они идут туда, и постепенно пространство наполняется звуком, который больше не имеет скрытого смысла. Ноты здесь не разговаривают сами по себе. Они звучат так, как их извлекают пальцы. Это честно. И это правильно.
Сегодня первый пришёл мальчик лет десяти – я знаю его уже больше полугода. Он немного сутулится, когда садится за инструмент, всегда долго настраивает руки над клавиатурой, будто просит разрешения у каждой клавиши отдельно. У него тихое дыхание, но сильные пальцы. И очень внимательные глаза.
– Можно я повторю ту пьесу с прошлой недели? – спрашивает он почти шёпотом, хотя мы сидим совсем рядом и никого в доме, кроме нас, нет.
– Можно, – отвечаю я. – Даже нужно.
Он играет. Ноты ложатся неторопливо, местами слишком осторожно, местами неожиданно смело. Музыка ещё не знает, какой хочет быть, но уже пытается говорить. Я слушаю и ловлю себя на том, что в этот момент дом… оживает не изнутри, а через них.
Когда звучит музыка, он словно вспоминает, что умеет быть не только стенами и окнами.
Но это не то оживание, которое было раньше. Не то странное слияние моего состояния и пространства. Теперь это просто жизнь: присутствие людей, их дыхания, их звука, их нерешительности, их маленьких побед, когда у них получается сыграть сложное место, которое неделю назад казалось невозможным.
Когда мальчик заканчивает, руки его немного дрожат – не от страха, от напряжения.
– Хорошо, – говорю я, мягко касаясь его плеча кончиками пальцев. – Но не бойся звука. Ты иногда пытаешься спрятаться в нём.
Он кивает. Он не понимает до конца, что я имею в виду – и это нормально. Он и не должен.
Следующая девочка приносит с собой запах города – немного сладкий, немного резкий, как слишком быстрый ритм. Она говорит много, смеётся, потом резко замолкает, когда садится за пианино, и становится совсем другой: сосредоточенной, упрямой, почти взрослой.
Дом принимает и её.
Я ловлю себя на мысли, что в такие минуты тишина отступает. Но не исчезает. Она как бы остаётся на втором плане, дышит глубже, дальше, позволяя звуку жить поверх неё. Это здоровая тишина – не угроза, не вакуум, а пространство, в котором кому-то можно позволить звучать.
Я давно заметила, что дети любят этот дом больше, чем взрослые.
Они чувствуют его не так. Их не пугает его прошлое, о котором они ничего не знают. Они просто играют, оставляя в воздухе свои ноты, и уходят, не задумываясь, что дом будет делать с ними дальше.
И дом ничего не делает.
Он больше не собирает музыкальные остатки чужих голосов, не хранит эхо сказанных и несказанных слов. Всё звучит и уходит, как должно.
В перерывах между уроками я иногда остаюсь одна в комнате с пианино.
Сижу на стуле, слушаю, как где-то вдалеке шумит море – не так отчётливо, как раньше, но достаточно, чтобы помнить: оно рядом. И вдруг накатывает странное ощущение – будто мир стал слишком прямым, слишком правильно устроенным.
Я должна была бы радоваться этому.
Я ведь столько раз мечтала о нормальной жизни. О доме, который не дышит моими страхами. О зеркалах, которые не смотрят внутрь меня глубже, чем позволено. О тишине, в которой можно отдохнуть, а не утонуть.
И всё это у меня теперь есть.
И всё же иногда эта ровность кажется не облегчением, а поверхностью, натянутой над глубиной, которую я уже однажды увидела и не могу забыть.
Я выхожу на крыльцо между уроками, делаю несколько глотков чая из термоса, смотрю на море. Оно сегодня спокойное – почти до неподвижности. Только лёгкая рябь, которая напоминает больше дыхание, чем движение.
Я вспоминаю тот город, те улицы, где стекло лгало и говорило правду одновременно. Вспоминаю лифтовые зеркала, витрины, окна ночных кафе, где мне иногда казалось, что я вижу не себя, а ту, которой я боялась стать. Вспоминаю отражение, которое слишком долго молчало, чтобы однажды заговорить слишком громко.
Я вспоминаю – и чувствую, как внутри меня что-то сжимается.
Не от боли. От пустоты после боли.
Есть особое состояние – когда ты уже не делишь себя на «до» и «после», но всё равно не можешь окончательно стать «просто».
Я часто спрашиваю себя: кем я стала, когда потеряла его?
Не кем была – это я более-менее понимаю. Была тем, кто держится за звук как за единственный способ не исчезнуть. Тем, кто пытается удержать живое присутствие через музыку, через память, через боль. Была тем, кто слишком зависел от воспоминаний, чтобы позволить себе настоящую жизнь.
А кем я стала?
Возможно, тем, кто умеет жить, но не всегда умеет проживать.
Есть странная вина в этом спокойствии.
Будто я предала ту, прежнюю себя, которая училась дышать в мире шорохов, треска, отражений, странных совпадений, разговоров с тенью. Будто я оставила её там, в том городе, в тех зеркалах, и теперь живу за двоих – за себя и за неё, но не уверена, что делаю это честно.
Иногда мне кажется, что я должна была бы скучать сильнее.
Я думаю об этом и чувствую – да, скучаю. Но по чему именно? По человеку, которого уже нет? По прошлому, где всё было слишком остро? По себе, которая умела слышать мир на другой глубине?
Может быть, по самому ощущению присутствия, которое было у боли.
Боль была убедительной.
Она не позволяла сомневаться в реальности. Когда больно – всё остальное точно существует. Тело, дом, звук, воздух, отражение – всё подтверждается болью, как штампом на документе.
Теперь мир подтверждается только собой.
И иногда это кажется недостаточным.
Вечером дом снова наполняется тишиной. Ученики уходят. Их голоса растворяются в пространстве, как растворяются ноты после финального аккорда. Я закрываю дверь, запираю замок, прохожу по комнатам привычным маршрутом – проверяю окна, свет, воду.
Всё спокойно.
Всё правильное.
Я подхожу к зеркалу в коридоре почти машинально. Это стало ритуалом, хотя я не люблю это признавать. Я смотрю на себя и жду – чего именно, я не знаю.
Иногда мне кажется, что в глубине стекла вот-вот дрогнет какая-то тень прошлого. Иногда – что отражение задержится на долю секунды, как прежде. Иногда – что оно вдруг посмотрит на меня не тем взглядом.
Ничего этого не происходит.
Я вижу только своё лицо. Чуть уставшее. Чуть спокойнее, чем раньше. С мягкими следами прожитого – не ранами, нет, скорее отметинами времени, которые никуда не убрать.
Я долго смотрю.
И вдруг ловлю себя на странной мысли: иногда самое страшное – это честное зеркало.
Потому что оно не лжёт.
И если в нём пусто – значит, эта пустота действительно во мне. Не мистическая, не сделанная чужими руками, не созданная домом, городом, событиями. Моя.
И это честнее, чем любые отражения, в которых можно было обвинять кого-то ещё.
Я отхожу от зеркала и гашу свет в коридоре.
В комнате, где стоит пианино, темнота мягкая. Я не включаю лампу сразу – сажусь у окна, смотрю, как вдалеке, над морем, медленно и лениво зажигаются огни редких лодок. Шум прибоя становится чуть громче, но это не голос, не зов, не предупреждение. Это просто море напоминает о себе.
Я сижу долго.
И думаю: возможно, дом сейчас честнее меня. Он перестал шептать, потому что больше не хочет выдавать мне иллюзию глубины там, где её нет. Или потому, что понимает – настоящая глубина теперь не в его стенах.
Она там, где я всё ещё боюсь смотреть.
Ночью тишина становится другой.
Днём она похожа на светлую поверхность воды – спокойную, прозрачную, слишком правильную. Ночью тишина тяжелее. В ней больше веса, больше пространства для шагов, которых нет, и дыханий, которые могли бы быть, если бы я жила прежней жизнью.
Я привыкла ложиться поздно. Не потому, что есть дела – их вполне достаточно днём, – а потому, что я давно научилась слушать ночь, как когда-то училась слушать музыку: медленно, не торопясь понять, не пытаясь сразу назвать чувства. Ночь никогда не говорит прямо. Она не шепчет, как дом раньше, и не гремит, как шторм. Она существует ближе к коже, чем любые слова.
Дом к этому времени полностью замолкает.
Он перестаёт быть пространством, по которому ходят дети, где звучат нерешительные ноты, где я наливаю чай и двигаюсь между окнами и дверями, как между известными тактами. Ночью дом становится конструкцией. Ничего лишнего. Только стены, дерево, воздух, море за окнами. Ничего, что пытается быть больше, чем оно есть.
Я лежу в темноте и чувствую эту простоту почти физически.
Есть постель, мягкое тепло одеяла, лёгкое колыхание штор, если ветер решит вспомнить о себе. Есть редкий, спокойный вздох дома, когда где-то глубоко в его старом теле смещается воздух. Иногда трещит дерево – не как предупреждение, а как старик, меняющий позу во сне.
И всё равно я чувствую – тишина не равна покою.
Она – не враг, не друг. Скорее зеркало, в которое нельзя не смотреть, просто потому что оно висит прямо напротив кровати.
Я закрываю глаза – и вижу то, чего нет передо мной. Это не картины и не сны, скорее состояния. Будто внутри меня всё ещё живут разные комнаты, каждая со своим воздухом. В одной по-прежнему звучат шаги, которые не должны были звучать. В другой продолжается бесконечное отражение: я смотрю – и меня смотрят в ответ, чуть дольше, чем надо. В третьей проживает та, прежняя, которая пыталась удержать любовь за счёт собственного дыхания.
Год – слишком долгий срок для того, чтобы всё это не растворилось окончательно… и слишком короткий, чтобы растворилось без следа.
Я поворачиваюсь на бок, открываю глаза. В комнате темно, но это другая тьма, не та, какой я когда-то боялась. Это тьма, в которой нет врага. И всё же я иногда ловлю себя на ожидании.
Ожидание – это привычка. Самая трудная из тех, что достаются в наследство от боли.
Я ожидаю не конкретного события, не возвращения прошлого, не чуда и не кошмара. Я ожидаю… второго слоя.
Когда-то мир был как стекло, за которым обязательно что-то есть. Ты смотришь – и видишь не только отражение, но и глубину, где может скрываться то, что ещё не решилось показаться. Это пугало и одновременно давало странное ощущение насыщенности существования.
Теперь стекло стало обычным.
И я всё ещё учусь жить с тем, что иногда оно ничего не скрывает.
Я встаю – тихо, чтобы не тревожить этот ночной порядок, хотя тревожить нечего. Холодный пол встречает ступни. Дом не вздыхает, не реагирует. Он принял моё движение так, как принимают факт – без комментариев.
Я прохожу по коридору.
Здесь раньше жила память. Я помню, как боялась идти этим путём: казалось, что сама архитектура дома создаёт ловушки из тени и света, как будто он хочет заставить меня увидеть то, к чему я не готова. Теперь это просто тёмный коридор. Обои молчат. Зеркало в конце отражает мою фигуру – ровно, честно, без игры.
Я подхожу ближе.
Тот же ритуал.
Не проверка – скорее необходимость убедиться, что мир по-прежнему прямой.
Я смотрю в стекло долго. Тишина становится плотнее, потому что она теперь делится со мной одним дыханием: моим. Я вижу себя. Никакого запоздания. Никакого сдвига. Никакого чужого присутствия.
И всё равно где-то глубоко внутри живёт странное чувство: будто я смотрю на себя снаружи.
Не полностью, не как в те дни, когда отражение словно знало обо мне больше, чем я. Просто лёгкое ощущение дистанции: я – это я, и в то же время – чуть рядом.
Я знаю, что это не зеркало.
Это остаток той внутренней раздвоенности, которая не исчезает мгновенно, даже если все внешние её отражения утихли.
Есть я, которая живёт. И есть та, которая наблюдает, проверяет, оценивает, спрашивает: «Ты правда здесь? Ты правда настоящая? Ты правда выбрала это?»
Иногда мне кажется, что именно ей в новом мире сложнее всего.
Её существование когда-то было оправдано. Когда реальность трещала, когда дом дышал слишком громко, когда тени умели разговаривать, когда любовь была частично тенью тоже – она нужна была мне. Она помогала удерживать форму там, где всё размывалось.
Теперь её роль закончилась.
Но исчезать она не торопится.
Я касаюсь зеркала пальцами. Холод стекла понятен, ожидаем. Моё отражение делает то же самое – и в этот момент я понимаю: я больше не боюсь совпадения. Раньше именно совпадение пугало. Когда твой жест и жест отражения не твоей реальности совпадают слишком идеально, это кажется угрозой. Теперь – просто подтверждение: всё честно.
– Я здесь, – произношу вполголоса, сама для себя.
И впервые за долгое время чувствую в этих словах не попытку убедить, а простое утверждение факта.
Я возвращаюсь в комнату.
Ложусь.
Ночь медленно двигается дальше – как вода, когда на неё не смотришь. Я слушаю море. Оно тоже стало ровнее, но даже в его ровности есть вибрация, напоминающая, что глубина всегда существует, даже если поверхность спокойна.
Наверное, именно это я сейчас пытаюсь принять: глубина не обязана быть бурей.
Иногда она тиха.
Иногда она не требует доказательств своего существования.
Иногда она просто есть – без шёпота, без знаков, без магии, без боли.
И это – самая непривычная её форма.
Утро приходит не сразу. Сначала темнота становится мягче, затем сереет, затем между окнами появляется тонкая грань света – как незаконченная мысль. Я просыпаюсь не рывком, а медленно, как будто тело и сознание договариваются, стоит ли сегодня подниматься.
Дом тоже просыпается – но по-новому.
Он не вздрагивает, не откликается заранее. Просто постепенно наполняется звуками обычной жизни: шорох ткани, когда я сажусь на кровати; лёгкий стук кружки о стол; ровный свист чайника. В этом есть своя музыка – другая, чем прежде.
Я выхожу на крыльцо, и мир встречает меня светом. Не ярким, не слепящим – мягким, как рука, к которой привыкаешь. Море дышит. Воздух прохладен. Где-то далеко проносится крик птицы – одиночный, чистый, как нота.
Я стою и понимаю: тишина тоже может быть присутствием.
Она не пустота.
Она – место. Пространство, в котором мне предстоит научиться находиться без опоры на боль, без привычки слушать только то, что кричит. Пространство, где мне, возможно, придётся заново встретиться не с тем, кого я потеряла, а с той, кем я стала.
И это, как ни странно, пугает больше, чем раньше пугали шёпоты и отражения.
Потому что теперь всё по-настоящему.
Теперь, если внутри меня темно – это моя тьма. Если светло – мой свет. Если пусто – это тоже обо мне.
Дом молчит. Море дышит. Утро стоит на границе между ночной памятью и дневной жизнью.
И я понимаю: впереди будет не громкая битва.
Будет медленная, тихая встреча – с собой.
Глава 2. Ученик с глазами отражения.
Он появился сначала звуком.
Не голосом – звонком. Тонким, но настойчивым, как капля, долго падающая в одну и ту же точку. Я в тот момент как раз закрывала крышку пианино после утренних упражнений, и звонок разрезал пространство комнаты не резко, а аккуратно, как нож, который давно знает свою работу.
Дом не отозвался.
Раньше любой неожиданный звук проходил через его тело, заставляя стены дрожать, пол вступать в свой особый диалог с шагами, окна – затаивать дыхание. Теперь звонок просто прозвенел – коротко, ясно.
Я выдохнула и пошла к двери.
За год я привыкла к новым лицам. Маленький город быстро привык ко мне: сначала с осторожностью, потом с интересом, потом – с определённым уважением, которое всегда кажется немного чужим, когда строится на книге, а не на тебе. Родители приводили детей, говорили одни и те же слова: «Она так любит музыку», «Он всё время стучит по столу», «Мы подумали, раз вы у моря, это так вдохновляюще». Я кивала, пускала их внутрь, показывала пианино, устанавливая между собой и их ожиданиями тонкую, мягкую дистанцию.
Сегодня я ждала другого мальчика – того самого, который всегда сутулится над клавишами и боится громких нот. Но по времени выходило, что он, даже если очень торопился, прийти ещё не успел.
Значит, кто-то новый.
Я открыла дверь.
На пороге стояла женщина, которую я видела пару раз в городке у магазина – высокая, в длинном тёмном пальто, с аккуратно собранными волосами и лицом, на котором усталость давно стала частью черт, как родинка. Рядом с ней – мальчик.
Первым делом я увидела его глаза.
Это произошло неосознанно, как всегда происходит с теми людьми, в которых ты по какой-то причине сначала слышишь, а потом уже видишь. Глаза были немного светлее, чем его волосы – серо-зелёные, с тонким, почти незаметным янтарным ободком вокруг зрачка. Но дело было не в цвете.
Они смотрели не прямо на меня, а чуть в сторону, как будто он привык сначала отмечать контуры пространства, а уже потом – людей внутри него.
Я знала этот взгляд.
Слишком хорошо, чтобы признаться себе в этом сразу.
– Добрый день, – сказала женщина. Голос её был вежливым, но натянутым на невидимую тревогу. – Мы… по поводу занятий. Я писала вам неделю назад.
Я кивнула. Вспомнила короткое письмо: «Сын, двенадцать лет, немного занимался раньше, недавно переехали. Ему не хватает… звука. Можно ли прийти?»
Тогда меня зацепила именно эта формулировка – не «музыки», не «уроков», а «звука». Будто она говорила не только о фортепиано.
– Конечно, – ответила я. – Проходите.
Мальчик переступил порог первым.
Он сделал это без суеты, но очень внимательно, словно входил не в дом, а в воду: проверял температуру, глубину, течение. Его плечи были расслаблены для его возраста, спина ровная, руки… слишком спокойные. В этом возрасте большинство детей либо прячут руки, либо всё время ими что-то трогают, хватают, роняют. Эти руки были как у человека, который уже знает, что такое ждать своей очереди вступить.
– Это Мирон, – сказала женщина.
Имя на секунду повисло между нами, как нота, которой ещё не нашли аккорд.
Я повторила его про себя: Мирон.
Слово звучало гладко, с мягким переходом от «р» к «о», как короткая фраза на выдохе. В нём не было ничего от прошлого, но почему-то оно отозвалось не в сегодняшнем дне, а там, где когда-то жили другие имена.
Я отступила, давая им войти. Дом принял их спокойно – ни шороха, ни скрипа, только лёгкий звук резины подошв по старому полу.
– Вы далеко живёте? – спросила я, больше чтобы дать женщине возможность отвлечься от собственной тревоги, чем из любопытства.
– Через холм, – она махнула рукой в неопределённую сторону. – Сняли маленький домик. Вид у вас, конечно… – Она на секунду задержала взгляд в окне, где линия моря лежала в полуденном свете тусклым серебром. – Он очень любит смотреть на воду.

