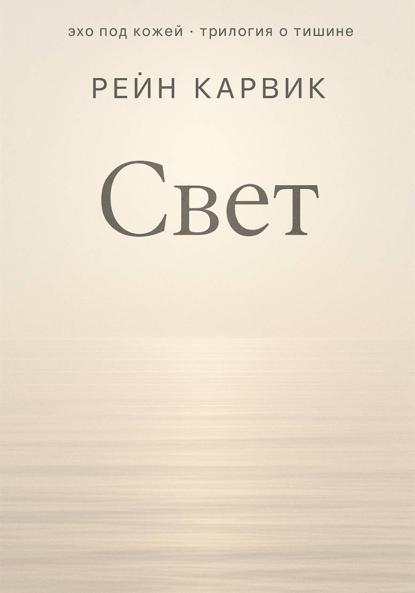
Полная версия:
Свет

Рейн Карвик
Свет
След света.
Море ещё не проснулось окончательно – оно только переворачивалось с боку на бок, будто пыталось найти удобное положение между ночью и утром. Волны шли лениво, без привычного северного упрямства, касались берега почти вежливо и откатывались назад, оставляя на песке узкую, мерцающую полоску влаги.
Я сидела чуть выше линии прибоя, на холодном камне, который за ночь успел пропитаться ветром, и держала на коленях тетрадь. Бумага была ещё сухой, но воздух вокруг уже пах солью так густо, будто его можно было пить вместо воды. Пальцы немного зябли, чернила в ручке как будто думали, хотят ли сегодня течь.
Рассвет здесь наступает не сразу. Сначала меняется звук.
Ночь дышит глубоко: море глухо бьётся о сваи, ветер идёт тяжёлыми шагами вдоль берега, дом за спиной скрипит так, будто разговаривает сам с собой. Утро, прежде чем стать светом, становится тише. Звуки не исчезают – они просто отступают на полшага, освобождая внутри пространства что-то ещё.
Я всегда слышу этот переход.
Когда-то мне казалось, что он похож на вдох пианиста перед первым аккордом: пауза, в которой уже есть вся музыка, просто ещё не нашедшая выхода. Теперь я думаю иначе. Переход между ночью и утром похож на то, как человек учится молчать не от бессилия, а по выбору.
Я обмакнула кончик ручки, провела ею по верхнему краю страницы, как будто нащупывала невидимую линию, и написала:
«Когда море утихло, я впервые услышала, как дышит земля».
Слова легли на бумагу мягко, без рывков. Будто ждали этого места.
Я посмотрела на фразу и не стала ставить точку. Просто откинулась чуть назад, почувствовала, как подо мной еле заметно пружинит камень, а под камнем – что-то ещё, более плотное, чем вода, более терпеливое, чем море.
Земля действительно дышит. Просто раньше я никогда не давала себе времени вслушаться.
Долгое время всё вокруг меня существовало в одном регистре – слишком громком. Дождь, который казался бесконечной партитурой без пауз. Город, где звук не заканчивался даже ночью. Дом, где каждый шаг отзывался в стенах. Музыка, которая не позволяла забыть ни одной потери.
Теперь всё иначе.
Год назад я думала, что тишина – это то, что остаётся, когда отнимают звук. Пустой коридор после закрытой двери. Белая страница, на которой забыли написать музыку. Сломанное зеркало, в котором больше не узнать себя.
Но вот я сижу на берегу, и мир тихий не потому, что обеднел, а потому, что перестал кричать.
Тишина – это не отсутствие того, что было раньше. Это присутствие того, чего я раньше просто не замечала.
Я провела пальцем по первой строчке, едва касаясь чернил, будто проверяя, живут ли они уже в бумаге или всё ещё колеблются на поверхности. Море вздохнуло чуть громче, откатило к моим ботинкам тонкий язычок пены и тут же забрало его обратно, как ребёнок, который ещё не решил, хочет ли делиться найденной игрушкой.
Письмо.
Я вспомнила, зачем вообще села писать.
Передо мной – не адрес, не дата, не имя. Только эта фраза, как незаконченный такт. Я знала, что не собираюсь отправлять письмо. Ни по обычной почте, ни по электронной, ни каким-либо другим способом, которые выдумал мир, чтобы не чувствовать расстояние.
У некоторых писем адресат не снаружи.
Я вдыхала сырой воздух медленно, будто училась этому заново, и думала, кому пишу: человеку, которого уже нет? Той, которой уже нет? Тому миру, где зеркала опаздывали на один удар сердца?
Иногда кажется, что я должна была написать это письмо намного раньше – в ту самую ночь, когда город впервые задержал моё отражение в витрине; или в тот день, когда дом у моря ответил мне аккордом на нажатую клавишу из другого времени; или в тот момент, когда я поняла: звук, который я слышу, – не голос ушедшего, а эхо той, кем я стала после его ухода.
Но сейчас – единственный момент, когда я могу писать без попытки вернуть.
Море чуть утихло. После нескольких штормовых дней оно устало спорить с ветром и теперь просто поддакивало ему, не споря. На горизонте линия света уже намечалась – тонкая, как царапина на стекле, – но ещё не превращалась в солнце. Всё зависло в состоянии «почти»: почти-утро, почти-тепло, почти-покоюсь.
Я опустила взгляд обратно в тетрадь. Неровные линии песка вокруг напоминали о том, что, стоит подуть ветру сильнее, и от моего следа не останется ничего. Слова же – останутся. Хотя бы внутри.
Я медленно дописала под первой строкой:
«Раньше я слушала только то, что било громче всего: дождь, который не умел останавливаться, голос, который исчез посреди фразы, шаги, от которых дом становился музыкой. Теперь я слышу то, что было под ними – как будто кто-то убрал один слой звука, и проявился другой».
Море тихо коснулось камней, словно подтверждая.
Ветер был терпеливым. Он не рвал страницы, не вырывал тетрадь из рук, только иногда заглядывал под край листа, как любопытный ребёнок, проверяющий, что я там прячу. Я знала, что если опущу руку, позволю ему перевернуть страницу, он сделает это без злого умысла. Но пока – рано.
Я выпрямилась. Спина немного заныла – камень не отличался гостеприимством, но это была честная боль, земная. Я привыкла к боли другой – той, что разливается звуком и не знает, где остановиться. Та была куда более утомительной.
Дом за спиной молчал.
Если прислушаться, можно было бы уловить тонкий скрип ставен, лёгкий шорох ветра в щели, звук, с которым по столу в кухне опускается кружка, оставленная вчера вечером. Дом дышал, но больше не пытался говорить со мной.
Раньше это пугало бы.
Когда стены жили собственной, слишком выразительной жизнью, мне казалось, что любое молчание – предвестник чего-то страшного: пауза, в которой обязательно прозвучит чужой шаг, аккорд, шёпот из-за зеркала. Я привыкла ждать вторую ноту даже там, где первой ещё не было.
Теперь эта простая тишина казалась подарком.
Мне иногда её не хватало. Память не умеет отпускать сразу. Она, как вода, возвращается на один и тот же берег, даже если там больше некому её встречать. Я скучала по звенящим трубам города, по зеркалам, в которых нужно было следить за собой, как за незнакомым, по тому мужчине, который однажды назвал меня «той, кто пишет тишину». По самой себе – той, которая ещё боролась, ещё спорила с отражениям, ещё не знала, что выбор – не между прошлым и настоящим, а между тем, остаться ли части навсегда чужой.
Но эта скука была как эхо: оно раздаётся, глухо катится по внутренним стенам и постепенно стирается в свет.
Я снова посмотрела на море.
Оно и раньше было частью моей жизни – даже тогда, когда я жила среди бетона и неона, где вода существовала только в трубах и подземных резервуарах. Море там было в памяти: в звуке, который вставал в горле, когда рядом кто-то слишком громко включал воду; в ритме шагов по мостовой, напоминавшем отдалённый плеск волн; в каждом длинном автобусном маршруте, который казался дорогой к недостижимому горизонту.
Теперь море было здесь, в настоящем.
И всё равно – я училась ему заново.
Город научил меня тому, как звучит перегруженная реальность: когда каждое отражение добавляет ещё один слой, когда время запинается в лифтовых зеркалах, когда тишина в квартире становится не отдыхом, а засадой. Здесь, у моря, реальность была проще. Но простота иногда пугает больше, чем сложность.
Проще – не значит безопаснее.
Когда волны бьют в берег с силой, они от имени всего мира объявляют: «Я здесь. Я силён. Я могу разрушить». В этом есть странное утешение: разрушение заметно. Когда море утихает, исчезает громкая угроза. И остаётся то, что тоньше – медленное, почти неразличимое дыхание земли подо мной.
Я снова прочитала первую фразу.
«Когда море утихло, я впервые услышала, как дышит земля».
Эта «впервые» заставила меня задержать взгляд. Оно было честным и неточным одновременно.
Я понимала, что на самом деле слышала это дыхание давно. Просто не признавала. Слишком привыкла искать ответы в громком – в голосах, аккордах, криках, стуках, – а не в том, как медленно остывает камень после летнего дня или как почти неслышно шевелится песок, когда его трогает вода.
Я задумалась, кому бы могла адресовать эту строку.
«Дорогой…» – рука сама дернулась к привычному началу, но я остановила себя.
Этот берег уже знал все мои обращения: к тем, кто исчез; к тем, кто остался; к тем, кто никогда и не был рядом по-настоящему, но жил во мне как постоянный собеседник.
Может быть, впервые письмо стоит писать тому, кто ещё ни разу его не получал.
Себе.
Не той, которая сидит сейчас на камне с тетрадью и чувствует, как в позвоночник медленно вползает утренний холод. И не той, что когда-то стояла на пирсе под дождём, прижимая к груди тетрадь с чужим почерком и ключ от дома. И даже не той, что с осторожностью входила в лифт, стараясь не смотреть в зеркало.
Кому-то между.
Той, которая осталась, когда отражения перестали опаздывать.
Я вспомнила, как во второй раз вернулась в этот дом. Не в тот первый, детский, мирный возврат, полный боли и узнавания, а во второй – после шумного, слишком яркого города, после витрин и стеклянных перегородок, после людей, которые видели во мне только книгу. Тогда дом встретил меня странно спокойно. Словно давно знал, что так будет.
Пианино молчало. Зеркало в коридоре показывало то, что было – ни на долю секунды раньше или позже. Пол скрипел только тогда, когда я по нему шелa. И всё же я поняла, что это не исчезновение чудес. Это – то, что остаётся, когда чудеса больше не нужны.
Я наклонилась к тетради ближе, чтобы ветер не забрал у меня слова, и начала писать дальше – не думая, к кому обращаюсь.
«Я думала, что исцелею, когда перестану слышать тебя в каждом шорохе, в каждом аккорде, в каждом сбое света. Мне казалось, что тот день, когда дом затихнет, а зеркала станут честными, будет похож на тишину после крика: глухую, оглушающую, пустую. Но всё вышло иначе.
Когда море перестало спорить с небом, я услышала, как под ним двигается что-то более древнее. То, что не зависит ни от тебя, ни от меня, ни от наших музыки и страха.
Я не знаю, как называется это дыхание.
Может быть – жизнь.
Но не та, что кипит на поверхности. Другая – та, что готова существовать, даже если о ней никто не будет писать».
Слова шли медленно, но без сопротивления. Моя рука немного устала, плечо заныла, однако это была привычная, почти физическая усталость, как после долгой прогулки. Раньше любое письмо давалось мне тяжело, потому что в каждом слове я пыталась удержать того, кого уже не было, или ту, которой уже нет. Сейчас я впервые писала о том, что есть.
За горизонтом свет стал заметнее.
Он ещё не резал глаза, не окрашивал воду в привычные холодные оттенки. Это был свет без цвета – просто обещание, которое даёт мир себе: «Ещё один день».
Я подняла голову, дала глазам привыкнуть к новой границе между тёмным и светлым. Море стало чуть яснее. В лёгких стало легче.
«Странно.
Я сидела здесь столько раз – ночью, в дождь, в шторм, в ту самую минуту, когда казалось, что тишина с другой стороны пианино вот-вот обернётся голосом. Но только сейчас, когда всё успокоилось, я услышала, как медленно и упрямо подо мной дышит земля.
Я всё время думала, что держусь за тебя.
Оказалось – меня всё это время держало то, что вообще не спрашивает, за кого держаться».»
Я поставила точку и сама удивилась ей.
Фраза не требовала продолжения – по крайней мере, на этой странице.
Ветер чуть сильнее ударил в лицо, как будто пытался проверить, не передумала ли я оставаться здесь. Море ответило ему коротким всплеском. Где-то далеко закричала чайка – один раз, резко, словно отметила факт моего присутствия и успокоилась.
Рассвет набирал силу очень медленно.
Я почувствовала, что внутри меня что-то выравнивается с этим ритмом. Не торопиться. Не тянуть за события. Не вызывать тени по имени. Позволить миру сделать свой вдох – и только потом делать свой.
Тетрадь лежала на коленях, тяжелея от написанного так, как тяжелеют руки после долгой пьесы. Я не знала, сколько страниц у этого письма. Может быть, одну. Может быть, десять. Может быть, оно вообще никогда не закончится – просто однажды перестанет нуждаться в новых словах.
Я знала другое: отправлять его некуда.
Но это не делало письмо бессмысленным.
Некоторые слова нужны не для того, чтобы дойти до адресата. Они нужны, чтобы пройти через руку и остаться под кожей, меняя её свет.
Я закрыла тетрадь не сразу. Сначала просто прижала ладонь к обложке, словно так можно передать теплоту пальцев словам, которые всё ещё остывали внутри бумаги. Море окончательно успокоилось – не до беззвучия, нет, до той ровной ряби, что напоминает дыхание спящего. Ничего тревожного, ничего пугающего. Равномерный ритм, который невозможно навязать – его можно только услышать.
Долгое время я привыкала к тому, что любой звук несёт угрозу памяти. Раньше стоило чему-то шевельнуться в пространстве, и во мне начинал жить страх: сейчас случится то самое, снова повторится, снова разорвёт прошлое на живые куски. Но утро не несло угроз. Оно медленно подбиралось к берегу, как осторожная рука, которую протягивают не для того, чтобы удержать, а чтобы дать опору, если вдруг захочется опереться.
Я дышала вместе с этим утром. И впервые за долгое время не ждала подвоха.
Тетрадь тяжело лежала у меня на коленях, и я поймала себя на странной мысли: я не боялась прочесть написанное повторно. Раньше каждое слово казалось опасным – как если бы текст мог ожить и снова втянуть меня в ту же боль, в те же коридоры, где отражения догоняли меня по шагам. Я боялась собственного почерка, как человек боится посмотреть в зеркало после долгой болезни, – вдруг там уже не он. Сейчас было иначе.
Я осторожно разжала пальцы и позволила ветру коснуться обложки. Он тронул её мягко, почти уважительно, как будто понимал, что внутри не исповедь и не крик – скорее тихая отметка: «я здесь», сказанная не миру, а самой жизни.
– Этого достаточно, – прошептала я почти неслышно. Не потому, что боялась, что меня услышат, – просто голос казался слишком грубым инструментом для этого утреннего звука.
Я знала, что могла бы продолжить письмо. Могла бы добавить ещё сотни слов, объяснить, оправдать, разложить по полочкам, снова пройтись по следам тех чувств, что однажды сделали из меня отражение самой себя. Но в этом уже не было необходимости. Иногда незавершённое – это не слабость, а правильная форма.
Я встала. Камень нехотя отпустил тепло моего тела, словно хотел задержать ещё хоть на мгновение. Ноги немного затекли, и несколько секунд земля казалась мягкой, непривычно податливой. Я сделала пару шагов и вдруг отчётливо почувствовала, как всё подо мной живёт: песок еле заметно двигается под весом, волна на мгновение обходит ступню, словно уступая дорогу, воздух скользит по коже.
Мир не был пустым – он был населен присутствием, просто не громким.
Я обернулась к дому. Он стоял на привычном месте, чуть в стороне от берега, будто не хотел вмешиваться в разговор между мной и морем. Ставни ещё были закрыты, окна молчали матовым стеклом, крыша держала на себе остатки ночной прохлады. Раньше я смотрела на него иначе: как на живое существо, способное говорить шёпотом по ночам, отвечать скрипом на внутренние вопросы, хранить в каждом углу чью-то память. Теперь он был просто домом. Но в этом «просто» появилась ценность, которой раньше не было.
Я знала каждый его звук: как тихо щёлкает дверь, если не закрыть её до конца; как ступенька на крыльце чуть дрожит, когда на неё наступаешь; как пианино внутри вздыхает, если проводить пальцами по крышке, не открывая её. И всё это больше не казалось знаками. Это просто жизнь вещей.
Когда-то я жила в мире, где всё было намёком. Мир намёков выматывает. Он не даёт права на простоту: каждое дыхание, каждый свет, каждый шорох обязаны что-то значить. Это утомляет сильнее боли.
Теперь я позволяла реальности быть обычной. И в этом обычном появлялась новая красота – тихая, как пробуждение.
Солнце наконец вышло из-за линии горизонта не резко, а медленно, как человек, который не хочет испугать комнату светом. Его луч коснулся воды, и море чуть дрогнуло. Будто ему тоже понадобилось время, чтобы привыкнуть к этому теплу. Я прикрыла глаза, не от ослепительности – от чего-то другого, более внутреннего, словно это свет коснулся не век, а того места, где годами жила усталость.
Я давно поняла одну простую вещь: страшнее всего не боль, а пустота после неё. Вторая книга моей жизни научила меня, как легко человек начинает существовать между отражениями – не выбирая, где он настоящий. Раздвоение – не крик, это шёпот, который медленно убеждает тебя, что ты можешь быть сразу в двух местах и ни в одном полностью. И когда это прекращается, остаётся не ликование, а странная, тихая пустота.
Сегодня эта пустота заполнялась светом. Очень осторожно. Без нажима.
Я пошла вдоль берега, не спеша, позволяя воде иногда касаться обуви, иногда отступать. Шаги были лёгкими, но каждый оставлял след, который тут же начинала стирать волна. Я не пыталась его сохранить. Есть следы, которые должны исчезать.
В какой-то момент я остановилась, потому что услышала звук, которого раньше не замечала. Это был не шум моря, не ветер, не крик птицы. Скорее тихое, глубокое гудение – как если приложить ухо к земле и услышать её изнутри.
Я выдохнула.
Да. Это и было то самое дыхание.
Когда море кричит, его трудно услышать. Когда сердце кричит, мир кажется глухим. Но когда всё утихает, становится слышно то, что всегда было.
Я не знала, сколько времени прошло. Утро окончательно вступило в свои права, и мир стал более определённым: камни обострились формой, тени исчезли, вода заблестела так ясно, словно собиралась сегодня быть честной до боли. Я посмотрела на линию горизонта и почувствовала странное спокойствие – не то наивное чувство, которое обещает, что всё будет хорошо, а другое: зрелое, внимательное, в котором есть место для любой боли, но нет страха перед ней.
Я вернулась к камню, где оставила тетрадь. Она лежала спокойно, как будто была частью этого берега. Я взяла её, прижала к груди. Это движение было чем-то вроде объятия – не человека, не воспоминания, а самого факта того, что я умею писать не только из раны, но и из света.
Я знала: впереди будет ещё много слов. Будут встречи, разговоры, будут чужие глаза, в которых снова может отозваться прошлое. Будут дети, ученики, чужая музыка и моя собственная, которая ещё не знала, каким голосом захочет звучать. Будут моменты сомнения. Это неизбежно.
Но я уже не боюсь этого.
Потому что впервые за долгое время мне не нужно было держаться за боль, чтобы чувствовать себя живой.
Я посмотрела на дом ещё раз. Он стоял, словно ждал меня – не требовательно, не настойчиво, просто присутствовал, как точка опоры, к которой можно вернуться, если захочется. Я почувствовала, как во мне рождается тихое желание: не убегать от него, не искать тайных дверей в его стенах, не проверять зеркала, не прислушиваться к шорохам. Просто войти. Просто жить внутри.
Я улыбнулась едва заметно – так, чтобы эта улыбка осталась больше для меня, чем для мира.
– Пойдём, – сказала я дому, морю, рассвету, себе.
И сделала шаг к свету, который уже уверенно лежал на дорожке, ведущей к двери.
Глава 1. Дом, который стал молчать.
Дом просыпается позже меня.
Раньше это было не так: стоило открыть глаза, и мир уже шумел – даже если снаружи была ночь. Доски под ногами помнили каждый шаг и отзывались заранее, как если бы знали маршрут лучше меня; трубы вздыхали до того, как я включала воду; ветер пробовал ставни на крепость, словно проверял, не забыла ли я, что он есть.
Теперь по утрам тишина приходит первой.
Я просыпаюсь не от скрипа, не от звука волн под полом, а от того особенного состояния, когда мир ещё не решил, будет ли он сегодня громким. Открываю глаза и несколько секунд просто лежу, слушая.
Тишина не абсолютная – она никогда не бывает абсолютной, если прислушаться. Где-то в углу старые часы упрямо продолжают отсчитывать время, хотя их никто не заводил уже несколько месяцев. За стеной мягко шуршит ветер, перебирая сухие травы у фундамента. С моря доносится глухой, очень далёкий шум – больше похожий на память о звуке, чем на сам звук.
Но дом больше не разговаривает.
Я чувствую это сразу, как только ставлю ноги на пол. Доски холодные, но неподвижные – не стремятся отозваться, не пытаются подсказать, где именно я сейчас тяжелее наступила, не ловят меня в момент, когда мысли ещё не успели собраться в слова. Я иду к окну, и старое стекло честно показывает только утро: бледное небо, сероватый свет, ровная линия моря. Никаких задержек. Никаких вторых смыслов.
Зеркало в комнате тоже ведёт себя правильно.
Когда-то я присматривалась к нему так, как смотрят не на предмет, а на возможную дверь. И каждый раз не знала, что страшнее: увидеть внутри себя или кого-то ещё. Теперь оно отражает ровно то, что есть. Женщину с чуть спутанными волосами, в мягком старом свитере, с лицом, которое научилось быть спокойным.
Ни запаздывания, ни опережения, ни странной тени в глубине стекла.
Иногда мне кажется, что само зеркало вздохнуло с облегчением, когда перестало быть проводником.
Я задерживаю взгляд на своём отражении чуть дольше, чем нужно. Не потому, что ищу в нём угрозу, – наоборот. Наверное, я всё ещё проверяю: мир действительно выбрал прямую линию?
Она и правда стала слишком прямой.
Я открываю окно. В комнату сразу входит море – не волнами, воздухом. Солёный, прохладный, с примесью водорослей и чего-то металлического. Этот запах всегда был для меня голосом детства, голосом дома. Теперь он звучит мягче. Или это я стала иначе его слышать.
Шум прибоя ровный, почти монотонный. Те, кто приезжают сюда впервые, считают его громким. Но для меня он давно превратился в фон – как дыхание человека, с которым живёшь: замечаешь только тогда, когда оно сбивается.
Последний шторм был недели две назад. Тогда море рычало, ломилось в берег, и дом отвечал ему всем телом: дрожал, скрипел, вздыхал в углах, пропуская через стены низкий гул. Я сидела у окна и слушала их разговор, не вмешиваясь. То было согласие двух старых существ, которые имеют право иногда повышать голос друг на друга.
Шторм отступил. И вместе с ним ушла последняя громкость, к которой я всё ещё была готова.
Прошёл год после того, как я вернулась из города, где стекло умело задерживать время, а отражения знали обо мне больше, чем я сама. Год – достаточно долгий срок для того, чтобы дом успокоился, а я – тоже.
Снаружи всё выглядит почти идеально.
Я живу у моря, в доме, который дышит ровно. Преподаю музыку детям из городка по ту сторону холма – к нам ходит школьный автобус, но многие родители возят их сами: некоторые до сих пор относятся к этому дому так, будто в нём есть что-то… особенное. Они не говорят этого вслух, но я вижу, как их взгляды чуть задерживаются на окнах, на старой крыше, на дорожке, ведущей к крыльцу.
Я улыбаюсь им спокойно, приглашаю войти, показываю пианино, нотные тетради, кружки на кухне. Обычные вещи. Обычный дом.
Они успокаиваются.
Я – не до конца.
Тишина, к которой я так стремилась раньше, теперь иногда кажется слишком гладкой поверхностью воды, под которой ничего не видно.
Я иду на кухню. Чайник стоит на плите, как всегда. Я наливаю воду в металл – звук тонкий, чистый, капли ударяются о дно и перетекают друг в друга, превращаясь в один поток. Когда-то такой звук был бы поводом задуматься, не скрывается ли за ним что-то ещё – напоминание, интонация, чужое дыхание. Сейчас это просто звук.
Включаю газ. Щелчок, ровное шипение.
Дом не вздрагивает, не реагирует, не поддерживает.
Я наливаю себе чай и понимаю, что мне почти комфортно в этой простоте. Почти.
Есть внутри маленькое, тугое «но», которое никуда не делось.
Раньше моя жизнь была похожа на глубокую воду: страшно, холодно, но всегда ощущаешь, что под поверхностью есть ещё что-то, бесконечная толща, в которой возможно всё. Теперь вода стала неглубокой. До дна достаёт даже осторожный взгляд.
Не все дна одинаково безопасны.
Я сажусь к столу, кружка обжигает ладони приятным, терпимым теплом. На столешнице – лёгкие царапины, следы прежних лет. Я знаю происхождение почти каждой. Вот эта появилась, когда мы с ним в спешке ставили тяжёлую кастрюлю, не успев подложить под неё тряпку. Эта – от детской вилки, которой я в девять лет пыталась «написать» на дереве своё имя. Вон там – еле заметный след от тетрадного уголка, когда я однажды слишком сильно опустила её, споря с собой о чёрном и белом.

