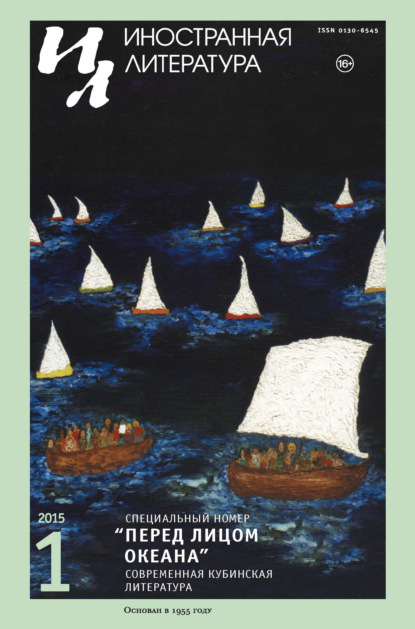
Полная версия:
Иностранная литература №01/2015
Когда он пришел домой, пары ацетона, напоминавшие о Марухе, выветрились, и по всей комнате воняло керосином, словно полной безутешностью: если он не будет себя любить, кто еще его полюбит? Ну, так тому и быть, значит. Ночь растянулась до бесконечности. У него чесались ноги. Он раскровянил ногтями ляжку. Сидя в раскорячку посреди кровати в трусах и майке, уткнувшись подбородком в ключицу, он поклялся Господом Всемогущим, что ничегошеньки не сделает, чтобы вновь стать счастливым – если предположить, что до этого он все-таки был счастлив. Он отказывался от этого права.
– Я бы стоял у стойки и хлопал тебе, – прошептал он в подушку и натянул шелковый чулок на все лицо, как маску для фехтования. – Я тоже не любил спать без тебя, Маруха!
Уснул он сидя.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. Элизабет Брюль прислала дюжину крокетов из маланги. И это еще не все сюрпризы, Лино. Я тебе приготовил пир на весь мир: тамалес в горшочке, жареные бананы, белый рис и обещанный суп из воздуха, куда же без него. Поставил фужеры из тонкого хрусталя. Я купил их сто лет назад в «Тен-сенте» и обновил с Рафаэлой Томей, моей обожаемой медсестричкой, ночью, полной страсти и неги. Заходи. Я как раз заканчивал убираться. Каждое утро, или почти каждое, я, чтобы развеяться, навожу чистоту. Всегда есть надежда, что какая-нибудь из моих женщин поднимется по лестнице, постучит в мою дверь и скажет, что не может больше без меня; поэтому каждая ваза, каждая рамочка для фотографий, каждая фарфоровая статуэтка должна блистать и переливаться на полках. Я предпочитаю обмахивать пыль без рубашки, в одних трусах. Потом прохожусь влажной тряпкой и пою. Такое поведение под стать мечтательной невесте, желающей поразить аккуратностью кавалера, который нынче вечером явится просить ее руки, а не такому старому пошляку, как я, который всю жизнь только и ищет, кто бы согласился взять его со всеми бзиками. Убирая в комнатах, я повторяю тексты Вирхилио. Я знаю диалоги наизусть. Всегда мечтал сыграть в его пьесе. Подожди, я оденусь. Не очень пахнет креолином?
– Пахнет, но приятно. Весь город воняет унитазами…
Кстати, об унитазах… Прежние унитазы выше нынешних.
Фабриканты выказывают решимость делать их все более приземистыми. В один прекрасный день их станут производить такими низкими, что нам придется чуть ли не садиться на землю с расставленными ногами, – говорит дон Бенигно в картине четвертой первого акта «Холодного воздуха» тощего Пиньеры. У меня отличная память и бутылка самогона.
Мелочи важны, по крайней мере, для меня, ведь я написал либретто своего несбыточного счастья и ежедневно расставляю декорации на тот случай, если какая-нибудь принцесса с характером осмелится навестить этот театр абсурда. Театр без кресел и лож, без критиков и историков, где все пространство подчинено пьесе для двух комиков, которую я репетирую день за днем: мой жизненный идеал. Я прирожденный актер и мало что оставляю на волю случая, хотя признаю, что в начатом диалоге есть место импровизации. Сегодня под утро у меня болело в груди. Покалывало. Я вышел на балкон. Продышался. Негритянка напротив – вылитая Электра Гарриго. Что за фурия гонится за мной, что за зверь, я не вижу, войди в мой сон и отважься увлечь меня на край света… О, свет! Или ты сам – тот чудной зверь? И боль прошла. У соседки на голове был венец из бигуди. Как хорошо, что ты здесь, Лино Катала.
– Спасибо.
Я поставил три тарелки, потому что думал, что ты приведешь Тото. Имя как из пьесы Вирхилио. Толстый говорит: Даром что акт поедания крокетов из маланги сам по себе не составляет трапезы, это все же приглашение к банкету, – и умолкает, прежде чем добавить: – Так и быть, отдам вам этот крокет. Там есть мудрые наблюдения над рисом с курицей. Когда отоварюсь окорочками, сделаю тебе рис а-ля Пиньера. Тощий говорит: Убавьте огонь до среднего и заложите следующие ингредиенты. Мытый, мелко нарезанный лук. Мытый зеленый перец без косточек, разрезанный вчетверо. Сладкую паприку, помидор, листик кориандра и веточки венериного волоса. Шесть оливок. Чайную ложку каперсов.
Тогда Толстый вскакивает со стула и восклицает: Браво, браво! Это возбуждает почище порнографического фильма, – поддевает чуть-чуть риса на вилку и говорит своему другу: Откройте рот. Подожди, я оденусь. Оставляю тебя наедине с Фрэнком, великолепным Синатрой. Можешь рассказать ему все что душе угодно: всегда полагайся на тактичность мертвецов. Спокойно, не надо на меня так смотреть, черт ты этакий. Я не сумасшедший, просто притворяюсь.
– У меня есть девять пластинок Уго дель Карриля.
Наша Элизабет всем Элизабет Элизабет. Где-то тут бродит эта чокнутая. Если тебя вдруг прошибет озноб или тахикардия – это она, словно легкий ангел. Дуновение. Капля света. Отблеск. Холодная тень. Ветерок. Скажи что-нибудь Элизабет. В юности она была монахиней. Сделай ей комплимент, парень. Если готовишь ты так же, как ходишь, я готов съесть даже сковородку. Я признаю: Брюль постарела, подобно мне. Подобно всем. Время не даром сочится. Время наш враг. Уверяю тебя, она была чистый огонь. Королева бала. Первая красотка квартала. Она уже не останавливает движение на улице Инфанты, как в лучшие времена, но если ты всмотришься с чувством, не обращая внимания на вены, на целлюлит, будто ватой набивший ее коровий зад, если пренебрежешь грустной легковесностью ее грудей, некогда округлых, то увидишь, что моя обожаемая Элизабет все равно что забальзамировалась. Я был ее наперсником, пока они не позаводили интрижек между собой и не обзавелись относительной духовной самостоятельностью – такого я не ожидал. К примеру, она всегда предпочитала Пьера Мериме, невзирая на мою заботу. Я видел, как они сплетались в постели. Больше всего ей нравилось любить при открытых окнах, о, божественная эксгибиционистка! скольким грехам ты меня обучила. Я храню в шкафу письма от дантиста. Уже давно не перечитываю, чтобы не споткнуться о камень безумия. Когда Элизабет чует мужчину в доме, она усаживается на последней ступеньке лестницы с розой в зубах. Она лижет лепестки. Ласкает себя от лба до увлажнившейся промежности, заглядывая по пути, разумеется, в колодец пупка. У меня слюнки текут.
– Похолодало.
– Я пойду оденусь. Угощайся крокетами. Подуй сперва: они с пылу с жару. Я слышал по радио, сегодня вечером на Гавану надвигается холодный фронт. Холодный фронт. Холодный фронт. Будто название для пьесы Вирхилио… или строчка из танго Карриля.
Лино Катала носил траур, пока черный пиджак не рассыпался на вешалке. Однажды в воскресенье он обнаружил, что подстригать волоски в носу и подравнивать усы ему теперь нужно всего раз в три-четыре недели, потому что волосы перестали расти так быстро, как раньше, и расценил эту странность как ясный сигнал к началу подготовки в последний путь. «Конец говну подходит», – подумал он, стоя перед зеркалом в парах керосина. Под говном он подразумевал свою жизнь. К этому времени он уже согласился, чтобы Офелия переехала к нему, после того как она призналась, что беременна.
– Внук! Пора уже запустить малыша в этот мавзолей, что бы писался на пол. Квартиру оставите себе, когда я отойду, – сказал ей Лино. – В гостиной опять запахнет ацетоном.
Офелия, дочь покойной Марухиной сестры, выучилась у тети рисовать цветочки на ногтях – прибыльное умение, если учесть, что немногие маникюрши отваживались на такие виртуозные подвиги. В октябре 1979-го Офелия вышла замуж за Тони, добрейшего малого, повара в ресторане «Анды», а в марте следующего года на свет появился ангел с синдромом Дауна: Антонио Мария, которого все звали просто Тото. Любящее сердце Тони помогло Офелии преодолеть стыд от того, что она родила ему неполноценного сына. Выйдя из такси с приданым для новорожденного, он взял младенчика на руки и, глядя в глаза удрученной жене, все еще сидящей в машине, произнес самое прекрасное признание в любви, которое когда-либо слышали в этом квартале:
– Благодарю тебя, Святая Дева, мой ребенок всю жизнь будет ребенком.
Это было не единственное прибавление потомства. В 1980 году родились близняшки Владимир и Валентина, дети тишайшей Долорес Мелендес, двоюродной сестры Тони и супруги лейтенанта Рохелио Чанга. Новые жильцы прибыли из провинции Лас-Тунас, с восточной окраины Острова, поприветствовали родню, робко склонив беззащитные головы, и попросились к Лино на постой.
– Это на время, – заверил Тони. – Недельки три и аривидерчи. Вы даже не переживайте. Я им буду готовить каннеллони с печенкой.
– О чем речь, Тони: ты у себя дома.
Ситуация осложнилась, да еще как, когда ультразвук показал, что беременность крайне рискованная. Гости загостились, потому что ни престарелый Лино, ни Офелия, ни деликатный повар не могли придумать цивилизованный способ избавиться от них, к тому же у Тони случился первый инфаркт (он поругался с Чангом за обедом). Лейтенант отдал Долорес приказ «окопаться на позициях», готовый защищать свои владения в честном бою: он забрал телевизор из гостиной к себе в комнату, провел телефонный кабель туда же, к тумбочке, и купил советскую стиральную машину, чтобы не стирать форму в том же корыте, где Офелия выкручивала стариковские тряпки, поварские фартуки и дебиловы пеленки, и тем самым дал понять, что отступать не намерен.
– Долорес, быть этому жилищу моим штабом, – сказал он.
– Дорогой, мне кажется, это нечестно…
– Брось эту дурость: даденного не воротишь. Лино – болван.
Еще до нашествия тунцов Лино уступил супружескую спальню Офелии в качестве свадебного подарка, а сам переехал во вторую комнату, откуда его попросили с приездом новой роженицы. В третьей комнате он перекантовался до апреля 1980 года, когда ее заняли под колыбельки близнецов. Лино наотрез отказался вернуться, как ни настаивал Тони, в собственную спальню и, в конечном итоге, перебрался в комнату прислуги, маленькую, зато с отдельной ванной. Кроме того, он сохранял право собственности на шкаф в гостиной, где выставлял два самых ценных своих сокровища: девять пластинок Уго дель Карриля, все в оригинальных обложках, и сотню книг, брошюр и журналов, над которыми успел поработать за годы блужданий по типографиям Гаваны.
Лино не сомневался, что умрет очень скоро, не позднее середины восьмидесятых, но его расчеты и раньше, бывало, страдали неточностью. У его сердца был еще такой запас хода, что 2003 год застал его на заднем дворе сворачивающим себе подгузник из газет в тени живой изгороди из квисквалиса. Заголовки газет славили сорок четвертую годовщину Кубинской революции.
– Какие мы старые! – воскликнул он, продевая сооруже ние между худосочных ног.
ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. Лино был знаком с Лесамой. Я тебе клянусь, Исмаэль. Он ведь линотипист, простите за тавтологию. После этой встречи за ним и осталось прозвище Колдун. Пересказываю историю, как он поведал мне ее за обедом. Слушай. В 1954-м Лино попросили поработать пару месяцев за одного типа в типографии «Укар и Гарсия», где печатался журнал «Орихенес». Спустя дней пять, говорит Лино, к ним пришел Лесама Лима. Он принес в коробке из-под конфет рукописи для следующего номера. Стал у порога цеха и наблюдал сквозь пары расплавленного свинца, с какой скоростью Лино передвигает клавиши, а потом сказал: «Вы Колдун, друг мой».
– Не верю, дядя. Ты такой выдумщик, каких поискать не найти.
Да, я выдумщик. Прошло много лет, но Лино все хранит экземпляр этого номера в целлофановой обложке на подставке из дерева, венчающей шкаф у него в гостиной, так он сам рассказывает. Он столько раз перечитывал его, что выучил статьи наизусть, как я – диалоги Вирхилио. Он очень гордится, что оказался на высоте и не наделал грубых опечаток. Со времен ученичества, когда он не щадил сетчатки и очков ради заглавных букв, у него осталась профессиональная мания: оценивать на глаз шрифты и знаки в объявлениях. «Такая уж я типографская крыса», – отвечал мне Лино, когда я усомнился, стоит ли все в этом мире оценивать по размеру шрифта.
На днях я показал ему тетрадку в красной обложке, где у меня тщательным образом, с дебетом и кредитом, подведен баланс шестидесяти восьми достопамятным женщинам. Имя. Фамилия. Прозвище. Возраст. Телефон. Особые приметы. Профессия/умения. Родня. Первый Отмеченный Адрес. Первая Встреча. Последняя Встреча. Первоначальный Любовник: Антунес, О’Доннел, Мериме, Санпедро, Симбель, Пласидо Гутьеррес, Элизабет и Ларри. Состояние либо Степень Испорченности Отношений в Настоящее Время: Умерла, Уехала из страны, Ненавидит, Любит. Заключительные Замечания. В коробке из-под сигар я храню письма от стоматолога из Санта-Клары к лишенной предрассудков Элизабет Брюль. Началось это еще в детстве. В одиннадцать лет я мнил себя нейрохирургом Пласидо Гутьерресом и оперировал ящерок бритвенными лезвиями. Пласидо – в честь хромого соседа, он всем чинил велосипеды в Арройо-Наранхо. Гутьеррес – моя вторая фамилия. В молодости долгое время я был дорожным инженером Бенито О’Доннелом, покорявшим женские сердца во всех заасфальтированных им деревнях. К примеру, у него была любовь с Магали Пеньялвер. Сюда занесены все ее данные: роскошная уроженка Пинар-дель-Рио, проживает в Гаване, на спине красноватая родинка. Первая Встреча: на карнавалах в Бехукале, в тот вечер, когда ливень погубил все веселье. Последняя Встреча: в ресторане «Кармело» на улице Кальсада. Морской окунь в сливочном соусе, картофельное пюре, клубничное мороженое. Я подвез ее до дому на мотороллере. Категория: вне всякого сомнения, ненавидит меня. Состояние либо Степень Испорченности Отношений в Настоящее Время: скончалась от астмы.
Я рассказывал Лино эти истории, как вдруг у него стали смежаться глаза. Он не дослушал мой панегирик Магали Пеньялвер, не узнал про ее красноватую родинку: уронил голову. Он спал с вилкой в руке. Я с уважением отнесся к его усталости. Вымыл посуду, до блеска отдраил кухню. Вернувшись в гостиную, я, однако, не обнаружил его на стуле. Подумал было, что он ушел, но нет, Исмаэль. Колдун лежал на диване, прижав руки к груди, скрестив ноги в щиколотках. Я укрыл его мексиканской накидкой, которую сто лет назад мне подарила Росита Форнес. Да я тебе рассказывал. Включил телевизор. Проснулся уже после полуночи под звуки Гимна, его всегда передают, когда кончается вещание. Накидка была аккуратно сложена на диване. А под ней он оставил мое первое издание «Двух старых паникеров». Немаловажная деталь.
Лино – загадка. Он не подпадает ни под одно из набивших оскомину определений кубинца. Он типограф по профессии, но при этом ни ура-патриот, ни мачист, ни барабанщик, ни танцор, ни жрец абакуа, ни бейсболист, ни вояка, ни сплетник, ни без царя в голове, ни пьяница, ни боксер, ни шутник, ни пропащий, ни подглядыватель, ни гулена, ни скандалист, ни пассивный голубой, ни активный, ни бабник. Он просто мне по душе. Отбрось комплексы и предубеждения. По лицу всегда видно, что человек хороший. Он обещал вернуться и вернулся. Кстати, мы ждали тебя к обеду. Лино застенчивый, молчаливый. У меня такое чувство, будто мы с детства знакомы. Я ему что-то рассказываю, а он тут же сам это вспоминает. Любопытно, правда? Мы слушали пластинки Гарделя. Он не числится в фан-клубе Синатры. Знает кучищу танго. Из разговора мы поняли, что, вероятно, встречались раньше, у нас есть общие друзья. Роса Росалес, например. Красотка, грешница, кто-то мне сказал, она уехала из страны во время мариэльской заварушки. Через нее я познакомился и с Марухитой, женой Лино. Она иногда пела в переулке Амеля. Бедняжка. Однажды она попыталась вскрыть себе вены куском стекла, мы с Росой срочно отвозили ее в больницу. Она была пьяна, мятный ликер переполнял ее до краев. Порез оказался неглубокий, вен не задел. В приемном ей наложили три шва на кожу, а я убедил полицейских не заводить дело: «чего по пьянке не бывает».
Лино – обалденный малый, а так сразу и не скажешь. Есть люди, сами на себя не похожие. Они прячутся в свою раковинку. Я думал: вот простофиля. Но снова ошибся. Что-то в нем есть. Он как-то все время пятится. Я ему сказал: ты убегай вперед, Лино. Наступай, а не отступай. После обеда я звал его глянуть тайком на негритянку с балкона напротив, груди у нее – что твои дыни. Тетрадка в красной обложке по ней плачет. За неимением данных я покуда зову ее Электра Гарриго. Лино не отваживался взглянуть. Ему стало не по себе. Я объяснил, что она любит, когда на нее смотрят, поэтому и расхаживает все время в трусах и лифчике. А жена Антонио ходит вот так… Даже на базар так идет… Так мы вновь подобрались к теме эксгибиционизма, и пришлось мне признаться, что я опытный, но совершенно безобидный вуайерист, это среди актеров и актрис распространено, ведь персонажа, племянник, надо у кого-то подсмотреть.
Лино всю жизнь прожил в одном доме. Вот жуть-то: три четверти века под одним куском потолка, под одной и той же лампой, под одними и теми же лепными завитушками, под паутиной, которую плетет паук-прапрапраправнук пауков твоего детства! Глупость, да и только. Надо переезжать, племянник, менять пространство, менять кожу. Одеваться в новую шкурку поверх мяса. Наряжаться в кого-то лучшего или худшего, чем ты сам, неважно – лишь бы антураж и прошлое у вас были разные. В детстве я понял, что всякий дворец начинается с отвлечения от кирпича. Вот она, заковыка: кирпич лепится из глины, а ведь мы все обращаемся в прах и глину. Ты знаешь, сколько мертвецов в одном кирпиче? В какой межстенной перегородке покоятся мои родители? Где продлится мой прах, когда я стану земной корой? И все же, признаю, есть что-то, чего я никогда не смогу свершить, – не хочу, чтоб ты представлял меня этаким победителем, полностью состоявшимся человеком: ни разу в жизни я не летал на самолете, Исмаэль. Ни разу не покидал Кубы. Я так и не повидал Ливан Абдула, Париж Пьера Мериме, Брюссель моей Брюль. Помнишь? Я говорил тебе как-то: у Брюль бельгийские корни. Вот ведь черт, полечу тогда в следующей жизни. Я утомился, но мне покойно.
– Ты плохо себя чувствуешь, дядя?
– Прочь, печаль! А жена Антонио ходит вот так…
В ту пятницу, 31 октября, выбросив, как всегда по утрам, подгузник из газет, защищавший матрас, и не успев еще окатиться из ведра, Лино столкнулся с неизменно мучительным всегдашним выбором: синюю рубашку надевать или зеленую, поскольку принял решение пореже носить кремовую гуайяберу, – третий предмет в его гардеробе, в котором не стыдно было людям показаться, – чтобы была как новенькая в день его похорон. А пока этот день не настал, он щеголял в ней только каждое второе воскресенье, тем самым уберегая от износа в условиях мирской суеты. Эта предосторожность, до безобразия, как могло показаться, преждевременная, открывала длинный список его навязчивых идей. Каждое второе воскресенье он отправлялся гулять по холодным тенистым галереям улицы Инфанты, где подбирал бумажки и картонки, а затем складывал в урны, пеняя сквозь зубы тем, кто и в ус не дует, пока весь город медленно, но верно зарастает мусором. Каждое первое воскресенье, когда Лино «ни за какие коврижки», по его собственным словам, не надевал кремовую гуайяберу, он также выходил, только уже под вечер, когда все кошки серы, и никто не вглядывается в лица призрачных стариков.
Тото, уже двадцатилетний крепкий приземистый малый, вцеплялся в его локоть и просил взять с собой на прогулку. Они выбирали нелюдные улицы: Сан-Франсиско, Валье, Окендо, Басаррате, Конкордия, Соледад. Дурачок дудел в свой рожок: три ноты, всегда одинаковые. Лино рассказывал, что под мостовой лежат берцовые и прочие кости, забытые рабочими, раскапывавшими старое, первое устроенное в городе кладбище Эспада, когда переносили могилы на новое, Колон, где лежит Маруха. Тото ударял себя по голове. Лино знал квартал, как свои пять пальцев. Он мог пройти его насквозь с завязанными глазами, перепрыгнув все выбоины на тротуарах. Ему нравился вид этих зданий времен Республики, упорно хранящих архитектурное благородство, хоть и рассыпающихся на глазах между Сциллой моря и Харибдой нищеты.
– Окна выпадают, как у тебя зубы, Тото, – говаривал Лино.
Он жил в Центральной Гаване с тех пор, как ему сровнялось семь, и там же в октябре, с разницей в год, потерял родителей. А еще в этих закоулках исчезло множество других Лино – Лино-малыш, Лино-печальный, Лино-друг, Линоюнец, Лино-жених, Лино-упрямец, Лино-слабак, Лино-неудачник, Лино-лентяй, Лино-чокнутый, Лино-взрослый, Лино-послушный, Лино-вдовец, и все они перевоплотились в этого неуверенного, вечного, застарелого ходока, шагавшего по прошлому, словно дезертир с кладбища Эспада.
Пару раз Лино и Тото по ошибке выкатывались к кафе «Буэнос-Айрес» на углу улиц Конкордия и Арамбуро, но старик всегда отводил глаза, страшась меланхолии. Он старался не проходить там с тех пор, как Роса Росалес, не простившись, покинула Остров. После десяти или двенадцати лет молчания, в августе 1994 года Лино получил открытку из Майами. Послание на обороте оказалось немногословным: «Тебя ждет твоя подруга. Не хочешь приехать? Можешь рассчитывать на меня. Решайся. Я открыла новое кафе – «Рио-де-Ла-Плата». Скучаю, Р. Р.» Лино так и не ответил. Собирался, да не донес конверт до почты. Первый черновик вышел таким безудержным, что он сам удивился, перечитав, что надиктовало ему одиночество – не лучший советчик; в каждом следующем он гасил исповедальный тон, пока окончательно не выполол из текста всю страстность, но и тогда не узнал себя в обесцвеченных строках. И предпочел промолчать. Он знал, что Роса Росалес не выносит фальши.
В последний вечер, перед тем как жизнь его навсегда изменилась, 31 октября 2003 года, Лино отправился с Тото размять ноги, и прогулка затянулась; от нечего делать они добрели до крепости Ла-Пунта, охраняющей вход в бухту, где у кромки Малекона начинается или кончается бульвар Прадо. В сыром плотном воздухе пахло неотступным ливнем. Море качалось в развалку. Удар внезапно подхлынувшей волны не оставил сомнений: вот-вот припустит дождь, да такой, что берегись, и вопреки желанию внука, которому хотелось поозорничать с бурей, Лино решил отойти от берега вглубь города, где они всегда успеют спрятаться в какой-нибудь галерее. Дождик, дождик поливает всех, кто без зонта гуляет, совсем нестройно напевал он зачем-то – возможно, чтобы развлечь Тото новым времяпрепровождением: петь и танцевать в толпе. Вот уже много лет он по собственному решению обходил стороной церемониальный маршрут их с Марухой ночей любви или нелюбви (львы Прадо, кинотеатр «Негрете», отель «Севилья»), но решил, что сегодня присутствие Тото сгладит драматизм. Так и случилось, потому что на всем крестном пути он выкладывал внуку идиллическую версию своей жизни, историю, лишенную терзаний, напиравшую на мгновения счастья и гармонии, которые «твои бабушка с дедушкой» пережили вместе, когда им было столько же, сколько ему, глупышу, юных лет. Он рассказал, какие фильмы они смотрели молодыми в «Негрете» – особенно тот, в котором играл Уго дель Карриль, – и какая расчудесная у них была первая брачная ночь и медовый месяц, проведенный взаперти в «самом шикарном» номере отеля, и не стеснялся в выражениях, описывая выдуманные моменты накала эротических страстей, – ему на руку играло невинное сердце Тото, которого, надо полагать, совершенно или почти не волновало, что Маруха оседлала дедушку на целых двенадцать часов непрекращающихся буйных оргазмов. Парень, как завороженный, смотрел на молнии, сплетавшиеся огненным кружевом у него в голове. Врак линотиписта им достало, чтобы выйти с улыбкой от уха до уха на угол улицы Трокадеро, где жил и умер Лесама Лима, возлюбленный поэт, некогда даровавший Лино более чем заслуженное прозвище Колдун. «Храни вас Бог, Маэстро, – сказал он, проходя мимо дома писателя. – Я так и не поблагодарил вас, ну да скоро мне представится возможность». Под конец прогулки, на асфальте Инфанты, когда уже падали первые капли дождя и небо так опустилось, что можно было дотронуться до него кончиками пальцев, и люди срывали белье с веревок над утопающими в цветах балконами и все «скорые» Гаваны будто сговорились и взвыли в унисон поверх гула ветра, Тото взгромоздил Лино на плечи, сомкнул руки засовом на икрах наездника и затрусил неуклюже, как медведь, по середине опустелой улицы.
– Но-о-о, Тото! – кричал старик, ухватив за шею своего тугоумного скакуна.
СУББОТА, 8 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. Я тебя слышу будто издалека, Лино. Говори громче. Я туговат на ухо, парень. Стареть – такая фигня. Разве что поднакопишь воспоминаний, в лучшем случае. Абдул Симбель говорит, что жизнь в тягость, потому что никогда не заканчивается. По мере того как я превращаюсь в мумию, ледник моего прошлого тает, и в глубине глаз проступают видения, так похожие на явь, что я даже пугаюсь. Вот скажи мне, дорогой друг, какой прок вспоминать в семьдесят рубашку, которая тебе нравилась в семь. Никакого. Как тоскливо воскресить лицо пацана, с которым учился в третьем классе, косого, или близорукого, или лопоухого, и всю ночь напролет сидеть без сна, пытаясь подобрать имя к этому лицу, которому давно было пора сгинуть в гробницах памяти! Ты можешь вспомнить, как вы с ним играли в бейсбол на насыпи, как ты завидовал его аккордеону, как он однажды поделился с тобой мороженым, но, пока не назовешь его по имени, косой, или близорукий, или лопоухий не сотрется из твоей ужаснувшейся памяти. На кой ляд помнить сырость какой-то там стены или кудахтанье взъерепенившейся курицы, которая клюнула тебя в ногу, потому что инстинкт подсказывал ей, что ты вознамерился напасть на ее цыплят? Нет, Лино, Абдул Симбель правильно думал. Ливанской своей головой. А я своей.

