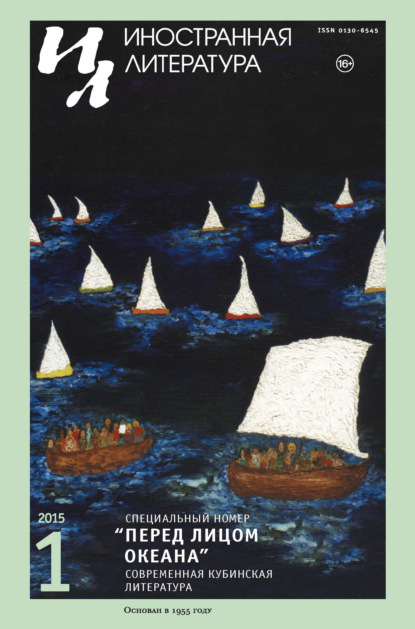
Полная версия:
Иностранная литература №01/2015
– Мороженщик приехал! Говорят, шоколадные эскимо есть. Подходи, я тебе очередь займу, Маруха, – прокричал Мойсес с лестницы.
– Старушка, мороженщик приехал, – пробормотал Лино сквозь зубы. Он не знал, как справиться с дрожью в коленках.
Дым от окуривания просочился в дверную щель, от химикатов у Лино засаднило в глазах, и это был хороший предлог, чтобы обмякнуть и заплакать.
ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА. Так значит, Лино, уже двадцать пять лет, как умерла Маруха? Да не может быть такого, надо же: как время летит! Мы с тобой познакомились на посиделках в кафе «Буэнос-Айрес». Помнишь? Я так тебя и вижу: лаковые ботинки, гамаши, брюки со стрелками, двубортный пиджак и испанский берет, светлый. Курам на смех. Я думал: в каком музее его откопали? Нас представила Роса Росалес. Говорили мы в тот вечер о каких-то пустяках. Я тебе чего-то наплел, ты мне чего-то навешал. А потом тара-рам, тара-рам, все уходят по домам. Я ушел, а вы тогда остались. Маруха танцевала с этой Росалес. И позже мы пересекались не сосчитать сколько раз. От моего дома до твоего шагов восемьсот будет, а навстречу друг другу мы ни одного не сделали. А почему? Все из-за внешности, я так думаю. Меня прямо воротило от твоей старомодной правильности, от этих синих и зеленых рубашек, всегда чистых, хоть и мятых, от начищенных ботинок. А тебе наверняка был противен мой шутовской наряд. Разве не забавные у меня штаны в черно-белый ромбик? А веревочные сандалии, желтая рубашка, флуоресцентные подтяжки, ни на йоту не растянутые? Зацени бейсболку «Янкиз». Шик, скажи? Ну да проходи, Лино, проходи: что ты там застыл, будто покойника увидал? Пускай твой внучок играет на барабане: я ему его дарю. Забирай, Тото, твой теперь барабан. Я обожаю порядок и гигиену. А вот красота меня угнетает. Оглядись: если найдешь грязную вазу, подарю тебе своего племянника Исмаэля Мендеса Антунеса, дороже у меня ничего нет. Я имею в виду не только то, что большая часть человечества понимает под красотой. Я равняю отвратительное и великолепное, вульгарное и возвышенное, пустое и изысканное, поверхностное и глубокое, нескладное и гениальное. У меня перед тобой преимущество, ведь я актер и то и дело меняю кожу. С юности я живу бок о бок с моими диковинными альтер эго, персонажами, носящими странные имена, а они при малейшей возможности норовят вселиться в меня, как духи. Мы так часто выступали вместе, что я успел точнехонько отладить их воображаемые истории, как часовщик подгоняет зубчатые колесики. Имя, данное мне при рождении, – Аристидес Антунес, но я так же был и есть Абдул Симбель, Бенито О’Доннел, Пьер Мериме, Эдуардо Санпедро, Лукас Васальо, Пласидо Гутьеррес, Элизабет Брюль и Ларри По. И все мы в общей сложности любили 68 женщин и одного дантиста. Эта тетрадь в красной обложке – протокол моего помешательства. Здесь я фиксирую точные данные обо всех моих любимых, чтобы не забыть, кому принадлежал. Это мой реквием по мне же. Местом действия я избрал наш город, Гавану, мою бархатистую Гавану, Гавану карманную, прогулочную, и здесь я сотворил фарс своей жизни и чихал, что другие скажут. Счастливый конец пьесы состоится по моей кончине. Я человек мягкий, мягче клоуна. Я было задумался однажды, а не вернуться ли к исходной точке, дому с четырехскатной крышей в моем родном Арройо-Наранхо, но потом решил, что это было бы ошибкой, ведь в одной реке дважды не искупаешься. Стоит вернуться в поселок – и конец мне придет: тамошние развалины и меня превратят в развалину. Я столько лет давал частные представления и всегда нуждался в ком-то, кто похлопал бы, в зрителе, в очевидце. В ком-то вроде тебя. В друге. За этим и нужны друзья.
– А мы друзья? Мы только познакомились, Ларри.
– Да брось ты, старикан, бывает дружба с первого взгляда. Дай-ка я прочту тебе кое-что из тетради.
– Валяй, только сначала до уборной дойду.
На самом деле я, Аристидес Антунес, незадачливый актер, артист массовки на телевидении, чистокровный донжуан, старый пошляк. Я родился и вырос в поселке Арройо-Наранхо, в пригороде Гаваны, где мой отец обжигал кирпичи на кирпичном заводике XIX века постройки. Сын Хосе Исмаэля и Габриэлы, брат Габриэлы, дядя Исмаэля, вот уже три четверти века я копчу небо. Я считаю, мне повезло: люди смотрят на меня, но не видят. Я мечтал сыграть Электру, Анхелито, Чачу, Агамемнона, Тоту, Табо, Мефистофеля, Чайный Цветок – все это персонажи Вирхилио Пиньеры, – а вынужден был довольствоваться третьестепенными ролями: Голос из Громкоговорителя, Хор, Мужчина № 2, Голос № 3. Я не выношу ни возмутительной тишины одиночества, ни дробной развязности толп. Я бывал анахоретом, отшельником, кающимся грешником, но бывал и спесив, надменен, пренебрежителен. После нескончаемых пируэтов, после забега, где я больше спотыкался, чем летел, после того, как успел ухлестнуть за двумя сотнями женщин и раздеть сотню из них и овладеть примерно семьюдесятью, из которых поныне живы шесть или семь, хоть и любил я всего одну, у нее были косы, после того, как я выпил пятьсот бутылок рома и выучил наизусть пятьдесят пьес, итог моей жизни предстает чудовищно запутанным: в этом буйном дворце, где я обитаю, в окружении толпы призраков, я вверил свое сердце развязности, и вот он я, спесивый анахорет, надменный отшельник, пренебрежительный грешник. Я люблю румбу и рок-н-ролл, Фрэнка Синатру и Бени Море. Я весь соткан из противоречий. «Приходите с пустой», – писали на досочках в кубинских лавках, чтобы покупатели приносили свою тару под постное масло и свою кастрюльку – под жир. Я пришел со своей пустотой: я не занят. Когда подойдет моя очередь, когда я услышу: «Следующий, товарищ», – я упорхну отсюда. Человек рождается уже в очереди. Я оставлю дом прибранным, кухню чистой, постель заправленной, бумаги в порядке и выкурю на балконе последнюю сигарету, до самого хабарика. Все на сцену! Абдул Симбель, Бенито О’Доннел, Пьер Мериме, Эдуардо Санпедро, Лукас Васальо, Пласидо Гутьеррес, Элизабет Брюль, Ларри По, все за мной, гуськом. Оставляю вас здесь, в бессмертии этой страницы. Оставайтесь, если пожелаете. Маски, маски, я вас знаю. Я всегда думал, я ваш Джепетто, но не тут-то было: это вы дергали за мои ниточки в полутемной вышине. Вы заслужили свободу слова. Будьте счастливы. Играйте. Резвитесь. Насмехайтесь надо мной. И не скучайте обо мне, прошу вас. Не хочу, чтобы мне носили цветы. Все на Площадь! Врежьте на моей могиле Тюремный рок. Тоска – ненужная морока, ностальгия – жуткая дрянь. Если отыщете ее, передайте той, с косами, что я ухожу, не переставая любить ее. Последний пусть погасит свет. Я оттягиваю подтяжки и нахлобучиваю кепку до бровей. На счет раз, на счет два, на счет три: выхожу в пустоту! Чао. P. S. Все что угодно ради такого конца.
Будь как дома, Лино. Приходи ко мне обедать завтра или послезавтра. Без ложной скромности: я неплохо готовлю. Посмотрим, что найдется на базарчике. Вчера давали маниок и бананы, зеленые, как лягухи. Мой племяш Исмаэль нет-нет да раздобудет пару долларов и покупает мне в магазинчике в «Фоксе» туалетную бумагу, порошок, мыло. Как сказала бы Тота своему Табо в пьесе Вирхилио Пиньеры «Два старых паникера»: «Я не что иное, как труп, не страшащийся последствий». Обещаю тебе суп из воздуха. Не смотри на меня так, Колдун: мы ведь близкие друзья. Повторюсь: разве не бывает дружбы с первого взгляда? Дружба – это роман. Я тебе в общих чертах зачитал свое прощальное письмо, финал недоигранного фарса. Написал сто лет назад – пусть найдут на следующее утро после моей смерти. Что ты говоришь? Кто есть кто?
– Кто эта, с косами?
– Соль на рану. Ее зовут Эстер Роденас.
Я знал, такая красота дорого мне обойдется. Наши пути пересеклись в четырнадцать лет, в четверг, 5 июня 1947 года, день памяти блаженного Фердинанда Португальского. Помню, светило солнце, и дождь моросил, и отец сказал: дьявол женится. Жизнь – игра, Лино: нужно играть. Делать ставки. Развлекаться. Нет искусства без риска, поверь. Кто не играет – проигрывает. Переучет нашей мимолетной связи безупречен, в нем нет ни трещинки: на месте даже мандариновый привкус ее губ, а это доказывает, что время не так разрушительно, упорно и вероломно, как его малюют, иначе что-нибудь да поросло бы ржавчиной за пятьдесят семь лет, прошедших с тех пор, как я потерял ее тем невыносимо серым утром, когда семейство Роденас погрузилось в черное авто и скрылось за мостом, и последний образ Эстер растворился в эфире. Обо всем этом я пишу в тетрадке. Прочти. По мере того как я старею, она становится все более юной – прямо пропорционально моему одряхлению, и ночи не проходит, чтобы мне не приснились ее глаза.
Лино, жизнь – мираж. Да, я любил 68 женщин с допуском к телу, не считая Эстер. Половина умерли, половина от половины уехали из страны, а половина от половины от половины затерялись или знать меня не желают, так что, если подсчитать (шестьдесят с чем-то на два да на два да на два, столько-то на столько-то, пополам напополам напополам – бздюлька выходит), едва наберется шесть потенциальных, настоящих, полноценных, на которых можно рассчитывать, а поди еще знай – какая из них согласится взвалить на себя меня, после того как дурно я с ними поступил. Учительница Руис, Рафаэла, Барбара, Сивая, Хулиета, Бетанкур Косточка? Для одних я был инженером О’Доннелом или акварелистом Мериме, для других – доктором Санпедро или бизнесменом Симбелем. Аристидесом я чувствую себя, только вспоминая Эстер, а такое со мной все реже и реже случается. На прошлой неделе я ходил на обследование, так докторша сказала, что сердце у меня – никотиновый свинарник. Однажды в тюряге забабахали вечеруху, арестантский бэнд вышел на сцену, они вдарили рок-н-ролл, так что все ожило…
На заре артистической карьеры я вернулся к настоящему имени, дабы удостоверять свою личность официальными документами, но вне работы по-прежнему менял кожу – так мне было уютнее. Я выучился этому у хамелеонов. Некоторым я известен как Лукас Васальо (еще один псевдоним для артистических дел). Однажды я очертя голову воплотился в бедрах Элизабет Брюль, девицы бельгийского происхождения, у которой завязался роман по переписке со стоматологом из Санта-Клары, много старше ее. Серьезно. Страстность романа да не заставит нас усомниться в его подлинности. Мне хотелось узнать на собственной шкуре, каково это, когда тебя соблазняет мужчина, и заодно померяться мужской харизмой. Я думал, если быть начеку, я даже смогу открыть в себе женское начало, которое мы всегда стараемся закопать поглубже, ведь настоящие мужчины не вздыхают и не хлопают ресницами. Ухажер Элизабет оказался сексуальным маньяком. Он до того дошел, что предлагал ей четыре золотых зуба, лишь бы она подарила ему сладостный вечер на его дантистском троне. А по правде – по крайней мере, это ближе всего к правде – я был комедиантом Аристидесом Антунесом с рождения и до вечера, когда мне выпало играть носильщика в одной телевизионной пьесе: Кто убил Ларри По? Я не выбирал Ларри: это он похитил меня. В начале пьесы меня находили мертвым в захудалой гостинице, я лежал у кровати и в этой позе оставался пятьдесят минут кряду, стараясь дышать мелкими глотками. Росита Форнес прохаживалась надо мной, а я краем глаза оценивал ее формы, будто так и надо. Призрак Ларри так крепко засел во мне, что никто впредь не называл меня моим настоящим именем, на смену ему пришло имя этого загадочного азиата, о котором лишь немногие знали хоть что-нибудь наверняка, даже персонажи пьесы, а скудные слухи были так противоречивы, что детектив, расследовавший убийство, решил, что покойный являлся множеством личностей разом, причем ни одна из них не представляла интереса. В день съемок – отбросим скромность – я был великолепен. Ларри завладел местом Санпедро, О’Доннела, Мериме, Симбеля, доктора Гутьерреса и девицы Брюль. Он мне не мешает. В каком-то смысле, напротив, дополняет меня. Со временем мы стали одним человеком.
– А как же Лукас?
– Я убрал его, Лино.
На актере Лукасе Васальо лежит груз всех моих провалов. У меня не самые приятные воспоминания о нем. Четыре года назад я похоронил его на Малеконе, напротив отеля «Националь». Признаюсь, нелегко хоронить самого себя. Я отыскал в кладовке все вырезки, где он упоминался, портфолио, сценарии и сжег на террасе, чтобы и соседи полюбовались на мое собственное убийство. В тот же вечер я развеял пепел над морем, не сообразив, куда дует ветер, и весь измарался. Лукас отказывался покидать мое тело, цеплялся за меня ногтями: он хотел забрать меня с собой. Сучил ногами. На миг я раскаялся в содеянном. Мною двигала жажда мести. Я ожидал испытать легкость, когда положу конец его бесцветному существованию. Размазанный по мне пепел показал, что и Лукас Васальо меня терпеть не мог. Ох, да не уходи же. Тото может поспать на диване, если хочет. Посиди еще. Я тебе первому рассказываю о своих похождениях – ты первый, олух, сидишь и слушаешь. Я дам тебе тетрадку. Читатель мне тоже не помешает.
– Постой, Ларри… А узнали, кто убил носильщика?
– Да. Сука его убила.
– Какая сука?
– Жизнь-сука, Лино, воющая черепушка.
Двадцать пять лет без Марухи! Чертовщина. Какой ветрило дул, когда ее хоронили! Помнишь, как в кафе «Буэнос-Айрес» пахло бисквитами? Помнишь Росу Росалес? Вот было времечко. Прости меня, о совесть, подруга дорогая…
Прости меня, о совесть, подруга дорогая… Теперь, после смерти Марухи, Лино задался вопросом: почему она оставалась ему верна девять тысяч сто пятьдесят ночей подряд, с того ноября 1953 года до этого, в 1978-м, и в тишине ему явилась возможная истина, которую Маруха опровергла бы, даже втайне с ней соглашаясь: потому что она была женщиной, способной предать лишь однажды, наотмашь, и не желала терять время на поиски второго идеального мужчины, зыбкого счастья. Лино был ее синицей в руке. Страх объясняет почти все – а остальное объясняет привычка.
Маруха не изменяла ему? А никотиновые пятна между указательным и средним? А ночные гулянки после ванн с фиалковой водой? А таинственные подруги – такая-то, такая-то и такая-то? Его с ними так и не познакомили. А тот вечер в кафе «Буэнос-Айрес», когда Маруха вывела на танец Росу Росалес? А мятное дыхание? А шрам на левом запястье? И что, если счастье и вправду – миф? Что было для нее счастьем? Что было счастьем для него? К чему эти бессмысленные вопросы: несчастье у всех одинаково. Ответы, которые он выуживал из прошлого, вовсе не рассеивали сомнения, а оказывались куда их запутаннее.
Лино, к примеру, так и не оправился от удара, низведшего его до состояния блохи, когда на третьем году брака Маруха захотела узнать, почему никак не беременеет, и анализы показали, что расстройством, возможно, вызывающим бесплодие, страдает муж. И он не мог понять – как это Маруха по дороге из больницы просто умолкла и, казалось, смирилась. Она больше словом об этом не обмолвилась, будто ее не интересовал окончательный диагноз, а ведь сильнее всего на свете она любила воображать себе сумасшедший дом, до отказа набитый орущими разновозрастными детьми – и у каждого свой характер. Лино знал об этом, потому что еще до свадьбы у них была такая игра – придумывать звучные имена будущим отпрыскам, и Маруха выбрала три цветочных имени для девочек, а двух мальчиков назвала бы в честь знаменитых певцов; она наделяла их прозвищами, талантами, университетскими дипломами и начинала так обожать, что вот уже представляла себя юной бабушкой с целым выводком внучат. Лино пытался поднять эту тему, но она с непробиваемой изворотливостью уходила от разговора, и ему ничего не оставалось, как записать себя в неудачники. Им бы поплакать тогда, но у них не принято было плакать.
Два раза в неделю по заведенной привычке они отдавали супружеский долг, всегда слегка отстраненно, даже не целуясь, чтобы ненароком не озадачить другого необходимостью разнообразить действо. После каждого провала рот Лино, по-мужски уязвленного, полнился горечью, известной всем малодушным, подозревающим, что они не заслуживают таких горячих женщин; он додумался даже до того, что неплохо было бы Марухе найти жеребца и родить от него: сотворение этой истинной иллюзии вернет им вкус к жизни. Ей он об этом не сказал, хотя однажды – всего однажды – во время сиесты увидел во сне нерожденного сына. Тот смотрел из рамы маленького окна, как на фото для документов.
– Мне очень жаль, дон Лино, – сказал Мойсес. Он неук люже старался спрятать налитые кровью глаза, но на правой брови все равно отчетливо виднелся синяк. У него было со прано и губы кларнетиста. – Если хотите, я могу вызвать «скорую». Всем займусь, соседушка.
Лино дошел с Мойсесом до первого этажа. Свет ослепил его. Четверо ребятишек, увлеченных каким-то жарким и громким спором, гоняли на роликах по тротуару. Изыматели старья волокли матрас с ослабшими пружинами. Улица вибрировала. Зелень арек была чересчур зеленой, синева неба – чересчур синей, а белизна домов – чересчур яростной для сухих зрачков Лино Катала, новоиспеченного вдовца. И его правая рука больше не была его правой рукой: когда студент-медик сжал ее в порыве искреннего сочувствия, на манер прощания, кости хрустнули, словно цыплячьи хрящики.
– Она ведь не мучилась, правда?
– Думаю, нет.
Лино отворил дверь. То и дело она билась головой о дерево, каждый удар сильнее предыдущего.
– Вот ты и уходишь, Маруха.
Лино выбрал для супруги розовое платье, которое она надевала накануне, и вложил в руки пластмассовое жемчужное ожерелье, как амулет. От боли он стал внимательнее к мелочам, все равно что двадцать пять лет назад, когда с тщательнейшей одержимостью готовил свадьбу. Перед выходом в похоронное бюро не забыл отыскать в комоде Марухину косметику, чтобы гример трупов нарумянила ей щеки ее любимыми оттенками; стоя у каталки, попросил служащую надеть жене теплые носки: «В могилах холодно». Еще он выбрал фотокарточку Элоисы Санчес, Марухиной сестры, и сунул покойнице за пазуху: так она быстро найдется, когда ангел на небесах спросит ее о близких. Лино оделся в сорочку, костюм и галстук; строгий траур; начистил ботинки до искр и опустил в карман чешские ручки – обновит на свидетельстве о смерти. Трижды выбрился.
Первыми пришли выразить соболезнования его племянница Офелия и ее жених Тони, добродушный толстяк, повар в ресторане «Анды», потеющий, как проклятый, в своем единственном черном вельветовом костюме. Потом подтянулись три соседки, которым Маруха делала маникюр, а попозже – братья Эдуардо и Мойсес, на сей раз в черных очках. И, наконец, уже в похоронной конторе на углу улиц Санха и Беласкоаин, появилась Роса Росалес, хозяйка и главная вдохновительница посиделок в кафе «Буэнос-Айрес». Она убрала волосы под тонкую сеточку, оставлявшую открытой длинную белую шею, охваченную золотой цепочкой на высоте ключиц. Росалес принесла манильскую шаль, незаметно заштопанную в ста местах.
– Кажется, эту ты просил. Она на ладан дышит.
– Твоя шаль, старушка, – сказал Лино и укрыл Марухе плечи, прежде чем гроб закрыли.
Девушка с рыжими косами заглянула Марухе в гроб, осенила ее крестным знамением и мягкой милосердной улыбкой, и Лино подумалось, что это ангел принял облик улыбчивой гаванки. В соседнем зале провожали в последний путь мулата-китайца, убитого в уличной драке, как пояснила Росе Росалес крестная (по сантерии) мать покойного, сухощавая морщинистая негритянка во всем белом и нескольких ожерельях из семян святой Иоанны на жирафьей шее: «А справа, говорят, лежит один из соцлагеря», – сообщила сеньора. В третьем зале, где покоились останки иностранца, готовящегося отбыть в Европу, как только отыщется местечко в грузовом отсеке самолета, раскачивалась в кресле-качалке и читала журнал «Боэмия» девушка с косами.
– Красивые у меня гвоздики? – спросила она, когда Лино предложил ей чашку кофе. – Меня зовут Констанца. Я их на углу в цветочном купила.
– Да, очень милые.
– София ведь столица цветов? Он болгарин. Ну, был болгарин: Румен Благоев.
Констанца пришлась Лино по душе. Что-то в ее взгляде (или, может, овале лица, или огненных волосах – он не смог бы точно назвать причину) не давало оставить ее одну. За ночь рыжая успела рассказать ему несколько историй из своей жизни, не переставая заплетать и расплетать косу, отчего вся сцена преисполнялась особого простодушия. Констанца утверждала, что едва знакома с болгарином. Она обнаружила его в парке Мирамар, где ждала своего жениха, парня родом из Матансаса по имени Рикардо Пиментель: иностранец то ли пожаловался на боль, то ли с кем-то попрощался на непонятном языке, потом скорчился и умер на чужой земле, вцепившись в руку девушки. Вызванные Констанцей полицейские выяснили по паспорту, что звали его Румен Благоев и был он родом из Варны, куда и должен был вернуться через две недели, судя по билету на самолет. Болгарское посольство взяло на себя дальнейшие дела, но рыжая сочла своим долгом оставаться с покойным до конца: ее жених на свидание так и не явился. Патологоанатом заключил, что смерть наступила по естественным причинам, по всей видимости, от кровоизлияния в мозг, после чего консульские чиновники немедленно начали процедуры по репатриации трупа.
– Рикардо знает, что ты здесь? – спросил Лино.
Констанца откинула косу за спину.
– Уже неважно. Любовь тоже умирает, – загадочно ответила она. – У меня живот болит. Кофе перепила. Интересно, какая она, Болгария? В стране цветов, наверное, тысячи садовников в пурпурных комбинезонах колдуют над каждым розовым кустом. Ох, бедный мой живот. А сеньора в шали – ваша жена?
– Да.
– Такая молодая! Вот научусь молиться и за нее молиться буду.
Процессия Марухи отбыла раньше, чем увезли болгарина. Эдуардо предоставил в распоряжение скорбящих свой автомобиль. Садясь в «шевроле», Лино обернулся и увидел Констанцу у входа в похоронное бюро. Она держала руку козырьком, словно высматривала кого-то. Увидев Лино, замахала руками, давая понять, что Румен Благоев вскоре выйдет на взлетную полосу.
Процессия двинулась сквозь вдруг образовавшуюся толпу азиатов с огромным портретом, перевязанным черной атласной лентой, с которого улыбался мулат-китаец. В окно машины Лино увидел, как Констанца сложила ладони в почтительном религиозном жесте. Знакомство с этой непосредственной девушкой осталось единственным приятным моментом дня, и позже он вспоминал ее с преувеличенной, но искренней благодарностью, а когда решил, что больше им не суждено встретиться, что она так и застынет навечно на тротуаре у похоронного бюро, подумал, что Маруха была бы рада такой дочери, как Констанца, и почувствовал себя вдвойне покинутым.
Больше на похороны не пришел никто. Порывы северного ветра шугались по дорожкам кладбища, ввинчивались в лабиринты пантеонов, и все три венка завертело и унесло мимо могил, словно букеты невесты. Роса и Офелия вызвались проводить Лино.
– Приготовлю тебе поесть, – сказала Роса.
Лино попытался выдумать предлог, чтобы избежать западни.
– Меня довезут Эдуардо с Мойсесом, – ответил он. Он не умел врать.
У входа на кладбище они столкнулись с процессией мулата. Двое ребятишек лет семи прокладывали дорогу рою негров и китайцев: мальчик потрясал жаровенкой с ароматными углями, девочка била в металлический треугольник. Лино попросил Эдуардо выпустить его из машины, потому что захотел прогуляться до дома пешком. Мойсес следил за вдовцом в зеркало заднего вида, пока тот не исчез в пульсирующем сиянии вечера.
Лино прошел по улице Сапата до питомника на бульваре Пасео и там остановился передохнуть. У него болела селезенка. Тяжесть кольцом сомкнулась вокруг него, и тогда он начал пинать камушки под огромным деревом. Удар за ударом его ботинки прорыли почти идеально круглую канавку в перине палой листвы, а он так и не мог выбраться из этого искупительного круга. Все еще в плену горя он уселся верхом на ствол упавшей пальмы и попытался вызвать в памяти ускользающие мгновения, когда Маруха напевала над плитой еще твои губы о любви не говорили, а я уже знала, а я уже знала или когда они ездили на пляж в Гуанабо и Маруха ни за что не заходила в море (разве что по щиколотку), потому что боялась воды с тех пор, как ее сестра Элоиса утонула в прибойных волнах Бакуранао, от твоего взгляда мне пришла телеграмма и все сказала, и все сказала, но голова Лино Катала была пуста, и в редких гневных вспышках просветления он возвращался в ночь накануне, когда хотел прикрыть ее простыней, а она швырнула его на себя ты и только ты осветишь мой одинокий дом, ночь последней любви, запах кипяченого молока, и упрекал себя за то, что не понял, дурак, – они на краю пропасти, я уже знала, я уже знала, но лицо Марухи темнело, скрывалось в головокружительных спиралях, и пляж Гуанабо стирался из памяти, и деревья питомника вились, как воздушные змеи, потому что тем бесчеловечным вечером боль утраты была куда живее воспоминаний. Так он просидел час, устав от своей тени, устав от себя.
Вереница сердитых муравьев карабкалась по его ногам. Парочка подростков нашла убежище своей любви в кустах сырого сада: они горячо спорили, а в самый напряженный момент перебранки вдруг вцеплялись друг в друга и начинали целоваться. И смеяться. Лино подумал о Констанце, о китайском мулате, о болгарине Благоеве, встретившем смерть вдали от пляжей Варны. Три человека, которые знать друг друга не знали в этом мире, перестали дышать и смеяться в одном месте и почти что в одно время – совпадение, в котором, может, и нет никакого тайного смысла; учит оно разве только тому, что на каждом шагу нас ожидает распутье, загадка, которую приходится решать на ходу. Примем мы верное решение или нет, угадаем или промажем – все пути ведут в одну западню, и оттуда не выбраться. Вот что значит умереть: никто тебя больше не увидит. Лино принялся одного за другим давить муравьев.

