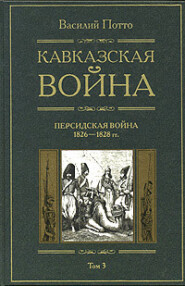 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг.
Пока происходила эта кавалерийская схватка, верстах в четырех от нее, у самой подошвы Алагеза, на небольшом возвышении, стояла кучка неприятельских всадников, осененная большим пурпурным знаменем. Там находился сам Аббас-Мирза. В подзорную трубу рассматривал он местоположение русского лагеря и с большим огорчением увидел, что местность, занимаемая русскими, крепка – и лагерь почти неприступен.
В это же самое время Красовский, со своей стороны, пожелал осмотреть персидский лагерь. В час пополудни два батальона пехоты, с двумя орудиями, переправились за Аба рань и двинулись прямо по тому направлению, где веяло пурпурное знамя. Аббас-Мирза тотчас оставил свой наблюдательный пост и удалился в лагерь. Все, что было на равнине конного, обгоняя друг друга, понеслось по следам повелителя. Но, отскакав на значительное расстояние, персидская конница одумалась и пошла шагом. Между тем глубокие рытвины и каменистая отлогость Алагеза замедляли движение русского отряда; на четвертой версте у обоих орудий сломались боевые оси, и Красовский, оставив при них небольшое прикрытие, продолжал идти без артиллерии.
Но вот остановилась и пехота. Генерал поехал вперед в сопровождении лишь нескольких офицеров и двух сотен казаков, с тем, чтобы произвести рекогносцировку. Персидский лагерь весь был на виду, и Красовскому в свою очередь пришлось убедиться, что позиция неприятеля также неприступна. Обеим сторонам оставалось одно,– стараться выманить противника в открытое поле.
Так прошло два дня. Но 13 августа, когда Красовский, сопровождаемый генералом Трузсоном, выехал по Эчмиадзинской дороге произвести новую рекогносцировку, вдруг, с аванпостов дали знать в лагерь, что неприятель наступает в огромных силах. Два казачьих пикета были сняты; остальные бойко отбивались на месте от нападавшей на них персидской конницы и не пускали ее вперед. В лагере между тем ударили тревогу; пехота становилась в ружье, артиллерия запрягала лошадей и выезжала на позицию; за Красовским тотчас послали батальон с орудием. А неприятель все приближался. Вот уже грянул пушечный выстрел, и мало-помалу начала разгораться канонада,– а командующего отрядом все не было. В лагере шепотом начали выражать опасения, чтобы он не попал в руки персиян.
И Красовский, действительно, подвергался серьезной опасности. Он ехал ущельем горы Карны-Ярых, откуда до самой Абарани, пересекая монастырскую дорогу, шла глубокая рытвина. Сюда ежедневно ходил казачий разъезд, узнать посредством телеграфа, что делается в Эчмиадзине. От лагеря до этого места было верст пятнадцать. Персияне, уже давно выслеживавшие в этом месте казаков, как раз в этот день устроили засаду, чтобы схватить разъезд в то время, как из атакованного лагеря ему не могли бы дать помощи. И спасли Красовского только зоркость глаза да чуткое ухо лихого офицера, ехавшего впереди с пятью казаками. Он издали увидел засаду и вовремя остановил генерала. А тут вдруг донесся из лагеря гул пушечных выстрелов, и Красовский повернул назад. Пятьсот человек отчаянных персидских всадников, опасаясь упустить добычу, выскочили из оврага и понеслись в погоню. Быть может, Красовскому и не уйти бы от кровных куртинских коней, летевших как ветер,– но показался батальон пехоты, бегом спешивший из лагеря навстречу к генералу; персияне сдержали коней и повернули назад.
Когда Красовский вернулся в лагерь, неприятель уже прекратил наступление и орудийный огонь замолк. Но опасность не прекратилась, и только грозила теперь с другой стороны. Сильная неприятельская колонна обходила лагерь и выдвигалась на дорогу в Судагент,– а оттуда в, этот день ожидали приезда в лагерь тифлисского военного губернатора, генерала Сипягина, возвращавшегося из Кара-Бабы, от Паскевича. Красовский еще с вечера отправил навстречу к нему батальон севастопольцев; но видя теперь, что персияне идут в том направлении в значительных силах, взял еще два батальона с четырьмя орудиями и выдвинулся с ними сам на Судагентскую дорогу. Скоро вдали послышалась перестрелка, и затем неприятельская колонна беспорядочной толпой отступила обратно в лагерь: севастопольцы и одни справились с ней. Нужно, однако, сказать, что большую услугу оказали им в этот день конгревовы ракеты, в первый раз в эту войну пущенные здесь в дело; они совершенно ошеломили неприятельскую пехоту, не говоря уже о коннице, которая в паническом страхе рассеялась при первых выстрелах.
Сипягин прибыл в лагерь вместе с Красовским. Там, посреди живописных гор, слегка запорошенных снегом, на небольшой равнине с пожелтевшей травой, выстроены были войска, и нарядный караул, с прекрасной музыкой Крымского полка, встретил губернатора обычными почестями. Сипягин привез известие, что осадная артиллерия уже перевозится через Памбу и дней через пять будет в лагере.
После обеда, проводив батальон Севастопольского полка, в тот же день выступавший в Джелал-Оглы за провиантом, Красовский предложил Сипягину “отдать визит наследному принцу за утреннее посещение им русского лагеря”. И вот два батальона, две сотни казаков и два орудия перешли с ними Абарань. Вся равнина тотчас же покрылась персидскими всадниками, скакавшими к своему лагерю, где скоро все пришло в движение. Оба генерала, сопровождаемые казачьим экскортом, поднялись на возвышение и осмотрели неприятельскую позицию. Неприятель осыпал их ружейным огнем. В шесть часов вечера отряд с песнями возвратился в лагерь.
А в лагере уже ожидали Красовского лазутчики с вестями весьма тревожного свойства. Значительные силы персидской конницы намеревались ночью выступить на Талынь и занять дорогу к Гумрам; до тысячи карапапахов, предводимые самим Наги-ханом, уже показалось на русской границе около Мокрых гор, а грузинскому царевичу Александру дано два батальона сарбазов и двухтысячная конница, для набегов на самую Грузию. Известия эти заставили Сипягина поспешить с отъездом в Тифлис. 15 июня, утром, он выехал из лагеря и с дороги послал приказание, чтобы две роты сорок первого егерского полка, стоявшие на турецкой границе, около Цалки, немедленно передвинулись в Башкичет, а батальон Севастопольского полка, посланный из отряда Красовского в Джелал-Оглы за транспортом, шел в Гумры, куда направлены были еще рота Тифлисского полка и два орудия. Граница была теперь прикрыта; но Зато небольшой отряд Красовского, имевший перед собой значительную персидскую армию, был еще ослаблен на целый батальон.
Между тем, 15 июня, в то самое утро, как Сипягин выехал в Тифлис, неприятельская конница снова приблизилась к лагерю Красовского и, рассыпавшись по Джингулинскому полю, зажгла его, чтобы лишить русских подножного корма. Опасности в этом, однако, большой не было: горела только сухая, негодная трава, зеленая же, еще сохранившаяся в сырых и низменных местах, оставалась невредимой. В два часа персияне, оставив за собой пылающие поля, потянулись к Ушакану, куда в этот день перенесен был их главный лагерь. Красовского известили, что все силы Аббаса-Мирзы направятся на Эчмиадзин, который мог очутиться в весьма тяжелом положении. Аббас-Мирза верно рассчитал, что опасность, грозившая монастырю, вынудит Красовского спуститься с гор и выйти в открытое поле.
XXVIII. АШТАРАКСКАЯ БИТВА
На речке Абарани, на пути в Эчмиадзин из Дженгулинских гор, где стоял лагерем Красовский, лежит селение Ушакан. Около него раскинулся обширный персидский лагерь. Переселение персидского лагеря к Ушакану было недаром. Все обстоятельства убеждали Аббаса-Мирзу, что Красовский, укрепившись в горной позиции, намерен держаться оборонительной системы, и вот наследник персидского трона решился направить удар в самое сердце христианского населения, двинув, 15 августа большую часть своих сил, под начальством Юсуп-хана, на Эчмиадзин. Он справедливо предвидел, что движением этим Красовский вынужден будет выйти в открытое поле, так как положение Эчмиадзина, защищаемого одним только батальоном Севастопольского полка, действительно, могло внушать ему серьезные опасения.
Комендантом Эчмиадзина был в то время старый артиллерист, подполковник Линденфельден, один из лучших штаб-офицеров двадцатой дивизии. Внезапное появление персидских полчищ перед монастырем не смутило его. На предложение сдать Эчмиадзин, он ответил лаконично одним решительным словом: “Не сдам”. Когда персидские сановники, рассыпая перед ним перлы своего красноречия, пытались переманить его в шахскую службу, он сказал, что “русские собой не торгуют, а если; монастырь персиянам нужен, то пусть они войдут в него как честные воины, с оружием в руках”. Упорство коменданта заставило Юсуп-хана обратиться к другому средству, и он написал архиепископу Нерсесу письмо следующего содержания: “Если ты добровольно не отворишь ворота, то я окружу монастырь всей артиллерией, пушками, мортирами – и разорю его до основания. Тогда, Нерсес, грех будет лежать уже на твоей душе”.– “Обитель сильна защитой Бога,– отвечал Нерсес – попытайся взять ее”… Тогда персияне поставили свои батареи и к вечеру открыли такой сильный орудийный огонь, что гул канонады доносился до русского лагеря и сильно волновал Красовского.
Началась строжайшая блокада монастыря, прервавшая все сообщения с ним. Несколько армян и татар, пытавшихся пробраться из русского лагеря в Эчмиадзин и из Эчмиадзина в лагерь, были захвачены персиянами; двум из них выкололи глаза, двум отрезали носы и обрубили уши, а несколько человек из них и совсем пропали бесследно: Красовский не мог быть уже уверенным, что получит известие даже в том случае, если бы монастырю угрожала самая крайняя опасность. Несколько сведений о намерениях неприятеля он, правда, получил, но только от четырех сарбазов, бежавших из персидского стана. Они говорили, что эриванский сардарь дал слово Аббасу-Мирзе поднести ему через два дня ключи Эчмиадзина, а Аббас-Мирза, со своей стороны, обещал сардарю подарить для Эриванской крепости всю русскую осадную артиллерию. То, что сообщали эти беглые, вскоре подтвердилось известием и из самой Эривани. Там проживал в то время один из армянских старшин, Исак-Мелик, человек преданный России, и он то сообщил Красовскому план Аббас-Мирзы, заключавшийся в. том, чтобы сначала взять и разрушить до основания Эчмиадзин, а затем, оставив Красовского в Дженгулях прикрывать дорогу, идущую из Эриванской области через горы Памбу и Безобдал,– самому, со всеми силами, устремиться в Грузию через Гумры. Путь этот был трудный, но весьма удобный для движения войск с артиллерией, и притом защищаемый всего только одним батальоном Севастопольского полка. Таким образом, Аббас-Мирза рассчитывал свободно овладеть Тифлисом, но не останавливаться в нем, а только разрушить его, и затем через Елизаветполь и Карабагскую провинцию возвратиться в Азербайджан через Асландузский брод или Худоперинский мост. Целью этого быстрого кругового движения предполагалось, сверх разрушения Тифлиса, истребление на всем пути продовольственных средств. План был задуман очень хорошо и показывал, насколько прав был осторожный Ермолов, предвидя для Грузии многочисленные опасности, которых не хотели видеть и признавать другие. “Все это,– сознается Красовский,– Аббас-Мирза легко мог исполнить, ибо не встретил бы нигде более одного батальона для защиты в течение десяти-пятнадцати дней; и тогда все наши войска, находившиеся в главных силах при Кара-Бабе, в Дженгули и вообще в Эриванской и Нахичеванской провинциях, должны были бы, необходимо, претерпев бедствия без продовольствия, возвратиться в Грузию и там искать оного для своего спасения”…
Сам Красовский очутился в положении весьма тяжелом. Ожидая осадной артиллерии, а вместе с ней и Кабардинского полка, находившегося всего в трех-четырех переходах, он не мог идти на выручку Эчмиадзина и томился нетерпеливым ожиданием. Между тем, начавшаяся с раннего утра 16 августа под монастырем сильнейшая канонада гремела на равнине до самого полудня, показывая серьезные намерения неприятеля разгромить Эчмиадзин. В таких обстоятельствах один час промедления мог сделать невозвратный поворот в целом ходе кампании. Красовский горел от нетерпения. “Монастырь в опасности,– говорил он,– надо идти”…
Рассказывают, будто бы, как нарочно, в этот день ему доложили, что в Эчмиадзине нет провианта. Это оказалось впоследствии простым недоразумением, вызванным какой-то путаницей в книгах, в графах, обозначавших муку и крупу; хлеба в Эчмиадзине было еще много. Но это известие, вместе со словесной просьбой Нерсеса поспешить на помощь, порешило дело, окончательно утвердив Красовского в намерении идти в Эчмиадзин и, во что бы то ни стало, доставить туда быстро сформированный им транспорт с продовольствием. Многие пытались отклонить его от этого опасного движения; но он остался непреклонен. Старый ветеран наполеоновских войн, человек безупречной храбрости, Красовский верил в доблесть русского солдата и рассчитывал легко управиться с нестройными персидскими полчищами. “По многим опытам,– говорит он в своих записках,– я в полной мере мог положиться на усердие, неустрашимость и доверие ко мне, воодушевлявшие моих офицеров и солдат”.
Красовский спешил выступить к Эчмиадзину. К походу назначены были весь сороковой егерский полк, по батальону от полков Крымского пехотного и тридцать девятого, два казачьих полка и двенадцать орудий третьей легкой роты двадцатой артиллерийской бригады, К ним присоединился особый сводный батальон, составленный Красовским из двух рот, отделенных от сорокового полка, шестьдесят пионеров, восемьдесят стрелков Севастопольского полка и шестьдесят человек пешей грузинско-армянской дружины. Двухмесячное пребывание в Эриванский провинции настолько ослабило войска, что в батальонах едва насчитывалось по четыреста пятьдесят штыков, а казачьи полки, оба вместе; не могли выставить более трехсот всадников,– так что общая сила выступавшего отряда не превышала тысячи восемьсот человек пехоты и пятисот человек конницы, если не считать незначительной добавки к казакам конных армян, татар и грузин. В лагере, для прикрытия его, оставались только батальон Крымского полка, шестьдесят человек пионеров и десять орудий, под командой генерал-майора Берхмана. И в тот же день, когда загорелась под монастырем канонада, встревожившая Красовского, отряд в пять часов пополудни, уже совершенно готовый к выступлению, выстроился на небольшой площадке перед своими палатками. К нему выехал Красовский.
“Ребята! – говорил он, объезжая фронт и здороваясь с солдатами.– Я уверен в вашей храбрости, знаю готовность вашу бить неприятеля. В каких бы силах он с нами ни встретился,– мы не будем считать его. Мы сильны перед ним единством нашего чувства: любовью к отечеству, верностью присяге, исполнением священной воли нашего государя. Помните, что строгий порядок и устройство всегда приведут вас к победе. Побежит неприятель – преследуйте его быстро, решительно, но не расстраивайте рядов ваших, не увлекайтесь запальчивостью. У персиян много конницы; потому стрелкам не отходить на большие дистанции и, в опасных случаях, быстро собираться в кучки. Вас, господа офицеры, прошу иметь за этим строжайшее наблюдение. Надеюсь, ребята, что мои желания исполнятся в точности, что порядок, тишина и безусловное повиновение будет для каждого из вас святой и главной обязанностью”.
Началось напутственное молебствие. Коленопреклоненно молился отряд, готовясь идти на бой, исход которого был скрыт за непроницаемой завесой будущего. Все знали, что идут на битву неравную,– и все хотели найти утешение в горячей молитве. Необъяснимо велика та минута, когда чувствуется уже кругом веяние смерти и каждый ежеминутно готовится предстать перед лице Божие!.. Благоговейно приложились к святому кресту офицеры и стали по своим местам. Священник,– это был благочинный двадцатой дивизии, Тимофей Мокрицкий,– окропил знамена святой водой и направился к отряду, молча и неподвижно стоявшему с обнаженными головами. Сзади шли певчие и пели: “Победы благоверному императору нашему на супротивные даруя”. Осенив колонну крестом и окропив ее святой водой, священник прошел по рядам, еще раз остановился впереди и, возвысив животворящий крест, после минутного молчания, сказал:
“Братцы! Не устрашитесь многочисленности врагов ваших. Многочисленность их прославит только мужество ваше, доставит вам еще большие лавры и почести. Всемогущий Бог, сильный и в малом числе своих избранных, истребит многолюдные полчища врагов, не ведающих святого имени Его. Вооружите же, православные воины, крепкие мышцы ваши победоносным русским мечом, дух – храбростью, сердце – верой и упованием на Бога, помощника вашего,– и Той сохранит и прославит вас!”
Еще раз благословил он всех на путь добрый, на славу оружия,– и благоговейно склонили свои головы солдаты, из которых многие принимали последнее благословение.
Но вот пробили отбой,– и войска тронулись по Эчмиадзинской дороге. В самом хвосте колонны медленно потянулся обоз, составленный из легких артельных повозок, артиллерийских дрог и тяжелых провиантских фур, до верху нагруженных провиантом. Солдаты шли бодро и весело,– везде гремела музыка, пелись песни.
От Дженгули до Эчмиадзина всего тридцать пять верст, и Красовский решил сделать их в два перехода. Уже вечерело, когда отряд, поднявшись на одно из возвышений, увидел вдали густую цепь неприятельских разъездов. По всему пространству, раскинувшемуся перед глазами русских, началась бешеная скачка; это персидские разъезды спешили в свой лагерь с известиями о появлении русских. И через полчаса по всему протяжению персидской позиции, на горе и вокруг ее, при Ушакане, поднялись тучи пыли, которые, постепенно увеличиваясь, вместе с тем распростирались по дорогам к Эчмиадзину и Сардарь-Абаду. Было очевидно, что лагерь снялся, и Что конница персидская скакала на равнину, окружающую монастырь. Войска между тем спустились в долину, против самого селения Сагну-Саванга, и стали в боевом порядке на ночлег. Было девять часов вечера.
День 17 августа обещал быть необычайно знойным. Как ни рано выступили с ночлега войска, но солнце уже жгло; а дорога между тем шла через горы, представлявшие собой местность каменистую и в полном смысле слова безводную. Обоз на первых же порах стал отставать, повозки ломались, падали; люди помогали тащить тяжелые арбы и, несмотря на раннее утро, уже задыхались от жажды.
Часов в семь утра колонна взобралась, наконец, на скалистый подъем и здесь остановилась; предстоявший спуск с горы был еще страшнее для артиллерии, чем был подъем. Во время привала Красовский внимательно осматривал в зрительную трубу окрестность. И то, что было перед ним, не представляло ничего утешительного. Все видимое пространство на правом берегу реки было усеяно неприятельской конницей; неприятельские толпы переходили Абарань со стороны Аштакара, и гора под которой стоит Ушакан и которая еще вчера казалась покинутой неприятелем, теперь снова была покрыта войсками и укреплялась батареями; на левом берегу Абарани, по которому шел русский отряд, на крутых возвышениях против Ушаканской горы также стояло до десяти тысяч персидской пехоты с сильной артиллерией.
И уже в то время, как русский отряд был на привале, до трехсот человек персидской конницы близко подскочили к колоннам, спешились, залегли за камни и открыли ружейный огонь. Взвод стрелков оттеснил их. Но вслед затем две кавалерийские колонны, числом уже до пяти тысяч, вдруг, как две черные тучи, выдвинулись из глубокой рытвины и стали на самой дороге, лежавшей перед русскими. Это был как бы прямой вызов на битву. Но едва граната из батарейного орудия со свистом очертила в воздухе свою кривую линию и упала вблизи врагов, как вся эта конница вихрем пронеслась через дорогу и стала на высотах с левой стороны ее.
Видя, что отряд медлит спуститься с горы, персияне начинали думать, что Красовский не надеется пробиться к Эчмиадзину и намерен отступить в свой лагерь. Аббас-Мирза, опасавшийся этого более всего, предпринимал военную хитрость: он сделал вид, что отступает сам, и, отодвинув, назад свою пехоту к реке, спрятал ее в балке. Красовский улыбнулся. “Каков Аббас-Мирза!” – сказал он полковым командирам, собравшимся к нему за приказаниями.
Намерения неприятеля были совершенно ясны. От возвышенности, где стояли русские, дорога к Эчмиадзину пролегала между двумя рядами небольших, но крутых возвышенностей, образовывавших собой узкую лощину, почти ущелье. В этом-то ущелье, на самой дороге, неприятель и думал запереть русский отряд, чтобы затем истребить его губительным перекрестным огнем справа и слева.
Красовскому, только и видевшему впереди Эчмиадзин с его опасным положением и потому не допускавшему и мысли об отступлении, приходилось принять страшный неравный бой с весьма неверными надеждами на успех, которого не обещала, между прочим, и неопытность храбрых солдат. Уже восемь месяцев двадцатая дивизия находилась в Грузии; но, перенося всевозможные труды, она ни разу еще не встречалась с неприятелем в упорном и жарком бою. Происходившие до того времени ничтожные стычки только укрепили солдат в презрительном отношении к противникам, но не дали им ни опыта, ни той великой веры в самих себя, в которой заключалась вся тайна чудесных подвигов Карягиных и Котляревских. Если бы войска Красовского действовали налегке, они, быть может, еще и были бы способны вынести на своих плечах всю тяжесть чудовищно-неравного боя, когда одному приходилось сражаться против десятерых: но за войсками шел нескончаемый транспорт, и он вязал солдат по рукам и ногам, лишая их необходимой свободы действий.
Так или иначе, но отряд пошел вперед. Отдохнув и стянув обозы, он начал спускаться в страшное междугорье, грозившее отовсюду опасностями. Там уже невозможно было идти широким боевым фронтом, и потому Красовский расположил свои войска следующим образом: впереди, по обе стороны дороги, пошел батальон тридцать девятого егерского полка: две роты с двумя орудиями справа, две роты с двумя же орудиями слева; за ним следовал Крымский батальон в том же порядке, и тоже с четырьмя орудиями; по самой дороге длинной лентой тянулся обоз, прикрытый справа сводным батальоном, слева – казачьими полками; и, наконец, шел арьергард. Так как, проходя к Эчмиадзину мимо Ушакана, отряд оставлял в тылу у себя неприятельский лагерь, то в арьергард назначены были солидные силы – весь сороковой егерский полк с четырьмя орудиями.
Толпы персиян между тем быстро увеличивались новыми толпами, приходившими из-за Абарани, и, пропустив мимо себя колонны, стали наседать на арьергард, в то же самое время грозной тучей подвигаясь слева, чтобы не дать отряду возможности уклониться в сторону и выйти из-под огня батарей, стоявших за рекой. И вот едва отряд приблизился к пункту, против которого за рекой лежит Ушакан, как с противоположного берега загремела персидская артиллерия, которая и продолжала обстреливать двигавшиеся войска на протяжении нескольких верст; а отклониться из-под выстрелов в сторону не представлялось никакой возможности. Едва солдаты вышли из-под батарей ушаканских, как попали под огонь других, которые, переправившись из-за Абарани, уже заняли позицию на скатах между рекой и отрядом. В то же время восемь орудий громили отряд с тыла и с левых высот, стреляя по русским батареям и вдоль обоза.
Положение отряда становилось с каждым шагом опаснее. Вся неприятельская пехота, скрытая в овраге, выдвинулась теперь опять на возвышение и быстро шла вперед, чтобы захватить в свои руки выход из ущелья. На помощь к ней, влево от отряда, по высотам, скакал пятитысячный конный отряд. Неприятель стремился соединиться впереди, чтобы сомкнуться в кольцо и совершенно окружить отряд. “Отступление от этого места, – говорит Красовский,– делало потерю Эчмиадзина невозвратной, а малейшая медленность могла ободрить персиян и ослабить доверенность ко мне подчиненных”. И вот, он, чтобы открыть себе путь в монастырь, приказал головным колоннам тридцать девятого полка стремительно ударить на врагов. К счастью, егеря успели взбежать на высоты прежде, чем неприятель соединился, и сильным огнем расстроили его намерения: неприятельская конница, осыпанная их выстрелами, была отбита назад, и пехота – остановилась сама. Зато теперь все силы неприятеля обрушились на русский арьергард, с целью по. возможности замедлить движение отряда. Напрасно Красовский приказывал спешить с отступлением, чтобы скорее миновать гибельное ущелье,– исполнение этого встречало неодолимые трудности.
Утомленные пятичасовым сражением, солдаты начинали обессиливать. А неприятельская пехота нападала на арьергард все с большей и большей яростью. Помощи отряду ждать было неоткуда, он защищался отчаянно,– и врагам дорого доставались его нападения: картечь била их массами. Мужество солдат сорокового полка превосходило всякое представление. До подошвы горы, откуда начиналась уже Эчмиадзинская равнина, оставалось четыре версты: но эти четыре версты для сорокового полка и артиллерии, действовавшей с ним, были поистине ужасны.
Дорога становилась здесь каменистее и труднее. Артиллерия, прыгая по камням, едва-едва подвигалась в извилинах ущелья; от лошадей валил густой пар, оси трещали, ломались колеса, и каждая подбитая или упавшая арба загораживала путь, останавливала, движение. Замешательство в войсках при этом естественно росло, и люди, сбившиеся в кучу, падали под перекрестным огнем неприятеля. С каждым шагом вперед потери становились значительнее. Пришлось подкрепить арьергард целым батальоном крымцев, и Красовскому не раз приходилось самому водить в штыки то ту, то другую роту, чтобы только дать время остальным уйти вслед за обозами. Тогда орудия с величайшим трудом брались на передки и до следующего действия отступали с полумертвой прислугой. Усталость людей доходила до буквального изнеможения, потери – до невозможности действовать артиллерией. Многие солдаты падали при своих орудиях и, облокотись на камень, равнодушно отдыхали под градом неприятельских пуль.



