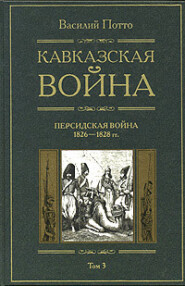
Полная версия:
Кавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг.

Василий Александрович ПОТТО
КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА
Том 3. Персидская война 1826—1828 гг.
I. ПРЕДВЕСТНИКИ ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ
В эпоху великих европейских войн, 12 октября 1813 года, Гюлистанский договор заключил собой десятилетнюю войну между Россией и Персией. Но следовавшие затем тринадцать лет мира были лишь продолжительным перемирием. Затишье, восстановившее внешние признаки дружбы между двумя державами, было обманчиво и служило только предвестником новых военных бурь. Тихо зрело глубоко зарытое семя вражды, ожидая удобных моментов для всхода, и в действиях персидского правительства, сквозь обычную лукавую азиатскую скрытность, то и дело прорывалось тайное недоброжелательство, напоминавшее начальникам Кавказского края о необходимой осторожности.
Гюлистанский мир, заключенный под громовым впечатлением побед Котляревского, отторгнувший от шахских владений богатые закавказские провинции, не мог не оскорбить слабую, но гордую Персию, несмотря на века несчастий все еще связывавшую свою славу со славой Персидского царства эпохи калифов. Повелитель “средоточия вселенной”, преемник грозного Шах-Аббаса и представитель новой династии, шах глубоко был затронут потерей ханств, после того, как он мечтал уже отторгнуть от России свою древнюю данницу, Грузию; ниспровергнуты были честолюбивые замыслы любимого сына его Аббаса-Мирзы, желавшего ореолом побед обеспечить за собой наследие престола; роптали подкупленные англичанами сановники, обманутые в своих расчетах; негодовал народ, на который всей тяжестью легли военные неудачи. Весьма вероятно, персияне, несмотря на все невыгоды своего положения, не заключили бы столь тяжкого мира, если бы англичане, дрожавшие за свои торговые интересы, не уверили шаха, что возвращение уступленных провинций будет достигнуто легко дипломатическим путем при могущественном посредничестве Англии.
Но и Англия, добившаяся постыдного для Персии мира в исключительных заботах о развитии своей торговли в монархии шахов, довольна не была. Удачно вытеснив в 1811 году окрепшее было там влияние французов, англичане боялись, чтобы Россия не получила преобладающего значения в стране, столь близкой к Индии, и всеми силами противодействовали успехам русского оружия. Несмотря на дружеский союз с Россией против общего врага, Наполеона, Англия пошла так далеко в своей расчетливой политике, что затратила крупные суммы на формирование регулярной персидской армии, так быстро погибшей под ударами Котляревского,– а английские офицеры принимали и непосредственное участие в делах персиян против русских. Гюлистанский мир, разрушив все плоды этих усилий, нанес Англии суровое дипломатическое поражение и должен был вызвать с ее стороны новые козни против возраставшего влияния России.
Действительно, во все тринадцать лет мира Персия была ареной дипломатической борьбы между Россией и Англией за влияние. В Тегеран и Тавриз являлись английские посольства со сказочной пышностью и блеском, так много значащим в глазах азиатских народов. Раболепно подчиняясь унизительным требованиям персидского придворного этикета, англичане в то же время с такой безумной расточительностью сорили деньгами и дорогими подарками, что все, окружавшее шаха и Аббаса-Мирзу, было закуплено и рвало обеими руками то, что можно было сорвать с англичан, отводя интересам государственным последнее место. Конечно, расчетливые англичане не на ветер пускали те баснословные суммы, которых им стоила Персия; эти суммы составляли лишь ничтожную часть барышей, которые приобретала ост-индская компания, сбывая персиянам свои товары, и особенно ром.
Бороться с Англией на этом поприще, уничтожить ее влияние – было для России не под силу уже потому, что “ни сей торговли, ни рассеваемых Англией денег мы ничем заменить не в состояний”, как справедливо замечает Ермолов в своих донесениях. Естественно, что в сферах, руководивших тогда судьбами персидской монархии, Россия, в противоположность Англии, друзей не имела; боялись ее грозных сил, помнили суровые уроки, данные ею при Мигри и Асландузе, но готовы были воспользоваться всяким случаем, чтобы нанести ей существенный вред. В основании всех отношений к ней Персии лежал исключительно страх перед ее могуществом.
Все политические обстоятельства складывались в высшей степени неблагоприятно для развития мирных чувств между двумя соседними монархиями. Подстрекаемая Англией, Персия путем бесконечных переговоров домогалась возвращения хотя бы части отторгнутых от нее земель и ежеминутно создавала все новые и новые политические затруднения. Но все ее домогательства встречали суровый отпор, возбуждавший в государственных людях Персии затаенное озлобление, едва прикрываемое маской восточной вежливости и низкопоклонных Фраз. Нет сомнения, что отношения Ермолова к персидскому двору также не способствовали упрочению приязненных отношений. Непреклонная политика, выдвинутая им с первых дней его пребывания в Тегеране и со строгой последовательностью проводимая в Закавказском крае, сделала его личным врагом наследника персидского престола, в руках которого соединялись все нити русско-персидских сношений. В личности Аббаса-Мирзы, по свидетельству Ермолова, лежала одна из главнейших причин тех политических затруднений, которые в будущем грозили неминуемой войной.
Дело в том, что года за четыре до поездки Ермолова в Персию, Аббас-Мирза, второй, но любимый сын шаха, торжественно и всенародно объявлен был, по воле отца, наследником персидского престола. Таким образом, законный наследник, старший его брат, Мегмет-Али, человек с выдающимися способностями, весьма расположенный к России, должен был уступить ему место.
Официальным предлогом к этому нарушению священных прав первородства послужило, кажется, то, что Мегмет-Али был рожден христианкой, в то время как мать Аббаса-Мирзы происходила из той же воинственной тюркской фамилии Каджаров, к которой принадлежал и царствовавший в Персии дом. Но этот предлог в глазах народа был не настолько важен, чтобы из-за него мог быть нарушен один из основных законов государства,– и положение Аббаса-Мирзы было двусмысленно и шатко.
Мегмет-Али как сторонник России мог рассчитывать на ее поддержку; в самой Персии он имел свою значительную партию приверженцев и однажды, в присутствии шаха и придворных, громко сказал Аббасу-Мирзе: “По повелению шаха я преклоняю голову свою перед тобой как перед наследником престола, но в свое время мечи наши решат, кому из нас владеть Персией”.
Таким образом нарушение прав первородства ничего не обещало стране, кроме потоков крови. И если самому шаху, по ироническому замечанию Ермолова, “достаточно было одной уверенности, что сего при жизни его не случится”, то Аббасу-Мирзе приходилось серьезно подумать о средствах удержать за собой незаконно захваченное наследие.
Первое, что представлялось ему на этом пути, было признание его наследником персидской монархии со стороны могущественного русского императора. Ермолов предвидел, однако, ту беспокойную и вредную для России роль, которая предстояла в будущем Аббасу-Мирзе, и не спешил утвердить столь большие права за несомненным и непримиримым врагом, в прямой ущерб другому, дружественному России принцу.
Несмотря на то, что одним из пунктов Гюлистанского договора Россия обязалась признать наследником Персии того, кого назначит шах, Ермолов, в бытность свою полномочным послом в Тегеране, сумел ловко обойти вопрос и уклонился от официального шага в этом смысле; он даже не считал нужным скрывать своих настоящих чувств к Аббасу-Мирзе,– с тех пор заслужил его ненависть. Тогда Аббас-Мирза обратился окольными путями непосредственно к русскому министерству иностранных дел и успел добиться своей цели, благодаря именно тому, что взгляды Ермолова не разделялись министром.
Признание Аббаса-Мирзы наследником персидского трона оказалось, как и предвидел Ермолов, весьма важной политической ошибкой, и отношения между Россией и Персией, вместо того, чтобы выиграть, напротив, бесконечно проиграли от этого неосторожного шага. С того самого момента, как он был сделан, начинается новый ряд политических усложнений, который в конце концов неизбежно должен был повести к войне. Пока Аббас-Мирза не был признан русским двором, он имел лишь косвенное и незначительное влияние на политические дела, ограничивая их скромной ролью начальника смежных с Россией провинций; теперь с ним приходилось разговаривать как с наследником трона, и уже ни один хоть сколько-нибудь важный вопрос не мог пройти без его участия. И вот, под его влиянием снова появляются на сцену притязания Персии на Карабаг и Талышинское ханство.
Аббас-Мирза мечтал заставить Ермолова согласиться на эти уступки угрозами. На самой границе Карабага он отвел владения беглому царевичу Александру, а земли, смежные с Талышинским ханством, дал в управление убийце князя Цицианова. Все, что бежало из русских пределов, находило у наследного принца почетный прием и безопасное убежище; он вел тайную переписку с закавказскими ханами, волновал татар, поддерживал деньгами смуты в Дагестане и, наконец, почти открыто договаривался с Турцией, предлагая ей заключить наступательный союз против России, могущество которой, по его мнению, угрожало всем магометанским государствам. К союзу этому Аббас-Мирза мечтал привлечь весь мусульманский мир и, льстя самолюбию султана, тайно давал ему понять, что тот как глава союза, призван возвратить своему трону утраченный блеск времен калифата.
Признанием Аббаса-Мирзы не достигалась и та единственно уважительная цель, которую выставляла Персия перед русским правительством,– избавление страны от внутренних потрясений. Правда, Аббас-Мирза уже не мог опасаться происков старшего брата, к тому же скоро умершего, и партия приверженцев последнего должна была сойти со сцены, зная решительную волю русского царя; но именно то, что, казалось, должно бы дать Персии спокойствие, и послужило для нее источником бедствий. Уже не связанный соперничеством, Аббас-Мирза вовлек ее на скользкий путь политики приключений.
Нельзя, впрочем, не сказать, что его более или менее вынуждали к этой политике и самые обстоятельства. Династия Каджаров, в лице свирепого Ага-Мохаммед-хана овладевшая персидским престолом путем кровавых смут и цареубийства, не имела на своей стороне даже выгоды долговременного обладания властью, что на Востоке нередко заменяет законное право. И Аббас-Мирза, принадлежавший к этой династии, да к тому же и сам незаконно овладевший правами старшего брата, и в личных и в династических интересах должен был искать блеска военной славы и победных триумфов, чтобы по крайней мере оправдать в глазах народа свое избрание в наследники трона. К этому направлены были все его действия, и он не переставал питать надежду отторгнуть от России покоренные ею области,– славнейшее дело, которое могло ему предстоять. Но на этом пути перед ним не было даже выбора: только одни англичане могли снабжать его деньгами и для рассеяния смут в русских пределах, и для заведения регулярных войск, на которые он смотрел как на будущий оплот своего могущества. И он по необходимости становился орудием в руках англичан.
В то время, как на сцене политической жизни Закавказья и Персии появился Ермолов, Персия, на четвертом году Гюлистанского мира, конечно, не могла и думать снова воевать с Россией. Но политика, направленная к приобретению военной славы наследнику трона, повела за собой сначала другие, меньшие войны. В 1818 году Персия воевала с афганцами, и шах, как бы напоминая Ермолову о своем могуществе, прислал ему следующее восточно-гиперболическое и цветистое извещение об одержанных им успехах.
“Победоносным войскам нашим,– писал шах,– всегда покровительствуют конные полки небесных сил, а потому действия неприятелей на ратном поле имеют против нас такую же силу, как звезды небесные против восходящего солнца… Пламенный меч наш, устремленный к поражению неприятеля,– есть молния, все сожигающая. И звезды светом победы освещают изображенную на счастливых знаменах наших луну”.
Описывая самую битву, шах говорит:
“От пыли, несущейся никем непобедимой конницы нашей, место сражения померкло так, что если бы открытый сарбазами огонь не освещал его, то стрелы, лишающие жизни, не находили бы пути пронзать сердца неприятельские. Пять часов длился бой, и воюющие не различали белого и черного. Наконец, на закате солнца, от огня пушек, сокрушающих Кавказские горы, разрушилось и основание неприятельских войск. Вдруг знаменитый наш сын, Али-Мирза-хан, хороссанский валий, со своими богатырями, наподобие волн морских, напал на неприятеля, и щедрой милостью Бога и нашим счастьем зефир победы развеял кисти у знамени победоносного сына нашего: несчастное же знамя неприятеля – низверглось. При сем нападении победоносный сын наш лично устремился на Ширдаль-хана (брата афганского владетеля) и мечом, сверкающим как молния, нанес удар ему в голову и разрубил его до самой груди, отчего тот упал с лошади, в пример прочим зрителям”…
Нужно думать, однако, что в действительности победа персиян не была так блистательна; по крайней мере, Ермолов, конечно не без основания, писал министру иностранных дел графу Нессельроде следующее:
“Хоросанцы вместе с афганцами разбили персидские войска, и урон ужаснейший. Начальствующий оными откупил свою голову большой суммой денег, и шах, хотя продолжил ему командование войсками, но, собрав большие силы, сам пошел на неприятеля. Жители Тегерана полагают, однако же, что он далеко не пойдет, опасаясь, дабы малейшая неудача под его собственным предводительством не произвела худое в народе впечатление. Невзирая, однако же, на неудачу, разглашаются ложные о победах известия и отправляются торжества. Таким образом уведомляет меня Аббас-Мирза о победе над курд-балдасами, когда имею я известия, что войска его понесли значащий урон”.
Так или иначе, но столкновения с афганцами значительно подняли дух персиян, и в 1821 году они начинают войну уже с Турцией.
С давних пор между двумя соседними мусульманскими державами были серьезные поводы к неудовольствиям, обостренные враждой пограничных начальников. Границы были ареной обоюдных набегов, разбоев и возмутительных насилий. Ермолов отмечает, что причиной вражды были, между прочим, притеснения, делаемые в турецких пределах персидским торговцам, и обиды, причиняемые ездящим на богомолье в Калбалай. Все внимание Порты было отвлечено в то время греческой войной за независимость, и многочисленные войска ее из Анатолии были выведены. Аббас-Мирза, уверенный, что Россия вступится за греков и объявит со своей стороны войну Оттоманской Порте, решил воспользоваться именно затруднительным положением последней и на ее счет создать себе военные триумфы. К Ермолову он писал между тем, что его подвигает к войне с Турцией чувство негодования на жестокость турецкого правительства против греков и вообще христиан. Он ездил даже в Эчмиадзинский монастырь и там просил католикоса на христианском алтаре освятить его меч. “Но, конечно, не мщение за христиан мог иметь в виду Аббас-Мирза, владетель мусульманский. Нельзя усомниться, что в расчетах английского правительства выгоды торговли дороже крови истребленных христиан”,– так доносил Ермолов, намекая, что и в этом случае Аббас-Мирза служил только послушным орудием английской политики.
В сентябре 1822 года, персидская армия быстро и неожиданно вторглась в турецкие пределы. Застигнутые врасплох и неготовые к обороне, турки не могли противиться, и Баязет, после слабой обороны, сдался. Персияне заняли также несколько небольших, но по своему положению довольно важных крепостей и в том числе Топрах-Кале, лежавший на арзерумской дороге. Отсюда набеги их простерлись даже до окрестностей Багдада, где все небольшие стычки окончились в их пользу. Даже жители Карса до того страшились персиян, что просили Ермолова занять войсками их крепость. “Не мог я сделать сего по настоящим обстоятельствам,– говорит он,– но многие селения спасли мы тем, что под видом охранения купленного нами хлеба расположили в них небольшие отряды”. Многие армянские деревни совсем бежали в русские пределы, и турки им не препятствовали.
Военные действия были, однако, не продолжительны. Оставив в Топрах-Кале небольшой гарнизон, Аббас-Мирза двинулся дальше. Не доходя до Арзерума, он встретил наконец турецкий лагерь. Здесь успели сосредоточиться войска двух пашей; но паши враждовали между собой, и никакого единства действий ожидать от них было невозможно. Аббас-Мирза стал готовиться к бою. Но турки бросили лагерь и пустились бежать по направлению к Арзеруму. Персияне кинулись грабить оставленное. Вдруг между ними пронесся слух, что турки возвращаются. Слух этот был ложен; тем не менее персидское войско пришло в неописуемый страх и, в свою очередь, поспешно стало отступать по направлению к Топрах-Кале. До сих пор еще не знают, которая из двух бежавших друг от друга армий остановилась прежде; известно только, что вскоре после этих маневров в персидском войске явилась холера, которую многие объясняют сильным нравственным потрясением людей. С тех пор с каждым днем возрастала в лагере персиян смертность – и солдаты толпами разбегались. Судьбе угодно было, однако, еще раз осенить знамена Аббаса-Мирзы победой. Дело в том, что сорок тысяч турок из Карсского пашалыка, пользуясь удалением его к Арзеруму, нахлынули на Топрах-Кале и, построив две батареи, принялись его бомбардировать. Гарнизон терпел, но не сдавался. Вдруг на соседних горах появились бегущие войска Аббаса-Мирзы. Турки поспешно сняли батареи – и отступили.
Одновременно с тем шли военные действия и со стороны Эриванского ханства. Но там дела персиян шли менее успешно. Курдистанский валий передался туркам и, делая набеги на Эриванское ханство, производил в нем страшные опустошения. В одной довольно горячей схватке была вырезана почти вся персидская конница, составленная исключительно из разбойников, давно бежавших из татарских дистанций Грузии. Потерпел сильно около города Вана и батальон, составленный из русских дезертиров.
Эти неудачи и явившееся убеждение, что между Россией и Турцией войны не будет и что последняя, опомнившись, соберет достаточные силы, чтобы наказать персиян за внезапное нападение, заставили Аббаса-Мирзу удовольствоваться приобретенной, славой, и 27 октября он уже возвратился в Тавриз.
Мирный договор между Персией и Турцией заключен, однако, гораздо позже, именно в 1823 году. Извещая об этом Ермолова, Аббас-Мирза писал надменно, что турки принуждены к тому блистательными успехами его оружия.
Как ни были проблематичны успехи персидского оружия в войнах с афганцами и турками, они стали предметом гордости для самого Аббаса-Мирзы и окончательно убедили его в могущественном значении созданной им регулярной армии. С пылкостью воображения, характеризующей азиатский Восток, он уже мнил теперь, что в силах померяться и с Русской империей. И вот, по заключении мирного договора с Турцией, он поднимает новый вопрос о проведении границ, условленных Гюлистанским трактатом между Россией и Персией.
Еще во время посольства Ермолова в Тегеран все дело о границах, по повелению шаха, было окончательно передано на решение Аббаса-Мирзы, и с тех пор в течение шести-семи лет оставалось открытым. Но ставя его на очередь, Аббас-Мирза умышленно дал своим требованиям такие преувеличенные, размеры, которые рано или поздно, но неминуемо должны были повести к разрыву.
Дело в том, что по Гюлистанскому договору отошли к России, в составе Карабагской области, части Чаундурского и Копанского магалов, расположенных в треугольнике, образуемом реками Араксом, его притоком Копан-Чаем и линией, проведенной к северу от Мигри. Это-то пространство, оставаясь неразмежеванным, и служило постоянным предлогом к дипломатическим пререканиям. Персияне продолжали удерживать за собой весь этот треугольник, принадлежавший России по смыслу Гюлистанского трактата, а русские, взамен того, занимали принадлежавшее Персии северо-западное побережье прекрасного озера Гокча, расположенного на севере Эриванского ханства.
Гокча представляет собой одно из поразительнейших зрелищ. На высоте семи тысяч футов, среди обрывистых скалистых гор, перед вами открывается громадное водное пространство и будто огромное зеркало в каменных рамах отражает безоблачное небо и цепи гор,– снеговые со стороны Карабага. Площадь этого озера заключает в себе пространство более трех тысяч квадратных верст. Это целое море, море – на высоте, превышающей тысячи на две футов высоту Чатырдага! Та же бесконечная морская даль, та же безбрежная водная равнина, уходящая за горизонт, та же чудная синева, какая открывается взору при виде любого моря,– и все это на вершинах горных кряжей, на высоте семи тысяч футов.
Таково знаменитое Гокчинское озеро.
Серые, пепелистые горы справа и слева обложили эту морскую синеву, а прямо перед глазами бесконечная даль, неизмеримая масса воды. Влево, с небольшим в версте от западного берега, виднеется небольшой скалистый остров, имеющий верст шесть в окружности. Это – бесплодная скала, покрытая очень скудной землей, занесенной сюда ветром, выветрившейся лавой да расположившейся растительностью. На нем виднеются серые стены древних построек и настоящих укреплений, над которыми высятся такие же древние конические купола армянской церкви. Это древний армянский монастырь, который, как и самая Гокча, называется по-армянски Севан.
Глубоким уединением веет от этого неприступного островка, сообщающегося с землей только посредством лодок, которые держат монахи. Тишину этого уединения нарушают лишь однообразные прибои волн да жалобные крики морских чаек. Горы амфитеатром обступают и озеро, и весь юго-западный горизонт и придают всей этой местности много величавой поэзии.
Окруженная водой, святая обитель только своей трудно доступной местности обязана тем, что ни разу не была разграблена кочевавшими здесь хищными курдами, не имевшими у себя флотилии. Предания хранят, однако, память о многих попытках разбойничьих племен добраться до монастыря и до его мнимых сокровищ. Монахи рассказывали много дивных и любопытных вещей, свидетельствующих и о хитростях, на которые пускались враги, и о небесной помощи, которая ограждала обитель. Говорят, например, что как-то раз лезгины задумали ограбить монастырь, но лодок достать им было негде. И вот они засели в деревянные ящики, которые под видом товаров и были нагружены на монастырские лодки самими же монахами, принявшими эти закупоренные тюки на берегу от возчика-татарина. По счастью, во время плавания, какому-то мальчику случилось услышать, как один из лезгин спрашивал другого: скоро ли берег? Мальчик поднял тревогу,– и предприимчивых разбойников вместе с ящиками побросали в воду.
В другой раз, при царе Ираклии Великом (5 января 1775 года), когда лезгины вторглись в Эриванскую область и опустошали христианские селения, большинство жителей по обыкновению укрылось на острове. Дело было зимой. Лезгины, не застав во многих деревнях ни души, пустились к монастырю по замерзшему озеру. В монастыре шла литургия, когда архимандриту Иоанну сказали, что неприятель вступает на остров. Он вынес к народу святые Дары и, обратившись к нему, сказал: “Молитесь, готовьтесь к принятию святых божественных Тайн!” В это время лед рухнул, и холодные воды озера поглотили неприятеля.
Благочестивый народ долго чествовал память своего избавления, и ежегодно 5 января, когда совершилось чудо, под сводами храма пелись благодарственные молитвы монастырскими иноками.
В этом-то величавом уголке природы и располагались летом русские войска для ркарауливания своих татарских кочевий. Закавказское начальство не прочь было уступить персиянам занятую ими часть Карабага, с тем чтобы удержать за Россией берег Гокчи, и такое решение пограничного спора было не безвыгодно для обеих сторон. Персияне получили бы лучшую и обширнейшую землю; выгода России заключалась в том, что, в место мусульманских подданных Карабага, она приобрела бы на берегах Гокчи армянское население, вместе с одной из тех древних святынь, которые так чтятся армянами.
Так или иначе, на обоих спорных пунктах необходимо было, однако, окончательно определить границы. Но начатые Аббас-Мирзой переговоры по этому вопросу, в течение всех последующих трех лет, до начала войны, носят характер упорных и намеренно создаваемых усложнений.
Когда, в 1823 году, решено было приступить к размежеванию и съехались назначенные для этого персидские и русские комиссары, скоро стало совершенно очевидно, что никакое соглашение невозможно. Под влиянием турецких побед, персияне надменно противоречили русским комиссарам на каждом шагу и “вопреки даже здравого смысла”, как выражается Ермолов. Так, например, чтобы дать буквальному смыслу договора выгодное для себя толкование, персияне требовали, чтобы левый и правый берег реки определялись не стоя лицом к ее устью, по течению, а напротив. На этом настаивал и сам Аббас-Мирза, “которого – как ядовито замечает по этому поводу Ермолов,– многие считают великим гением, преобразователем своего народа, вводящим европейское просвещение”. “Мнение сие,– говорит он,– разделяет с прочими и наше министерство, имевшее бы, кажется, нужду знать его короче”.

