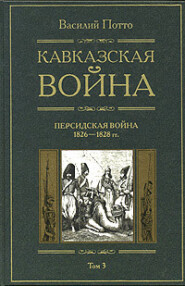 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг.
Эксан-хан и сам видел невозможность дальнейшей защиты родного города; он только просил несколько дней, чтобы ему и окрестному населению собрать свое имущество. Багратион согласился, и обратный поход назначен был в ночь на 7 августа.
Выступая из Урдабада, войска дотла истребили замок, в котором защищался Эксан-хан, чтобы не дать персиянам возможности устроить из него опорный пункт на левом берегу Аракса.
Медленно двигался русский отряд, конвоируя громадный обоз переселявшихся армянских семейств. Узкая дорога, пролегавшая между садами, позволяла двигаться только рядами, и потому лишь в девять часов утра войска и обозы стянулись наконец в деревне Ванант, пройдя всего двенадцать верст от города, и, утомленные, расположились было на отдых. Персияне, видевшие, что добыча уходит из их рук, решились напасть на обоз во время пути. Керим поспешил собрать все, чем только можно было воспользоваться в ближайших пунктах расположения персидских войск,– и перешел Аракc с твердым намерением истребить малочисленный русский отряд и возвратить назад переселенцев. Все это сделалось так быстро, что отряду не пришлось путем и отдохнуть. Нужно сказать, что почти непосредственно за деревней начинался глухой овраг, известный под именем Ванантского ущелья, перерезывавший дорогу, по которой отряду приходилось идти в деревню Чаланапы. За этим-то оврагом с крутым, обрывистым спуском и еще более крутым подъемом, на высотах правее дороги вдруг показались перед русскими толпы неприятельской конницы. Медлить выступлением с привала, очевидно, было нельзя, чтобы не подвергнуться нападению в самой глубине оврага,– и Багратион, имевший приказание отнюдь не вступать в дело, при подавляющем превосходстве неприятельских сил приказал ударить подъем, торопясь скорее миновать опасное ущелье, и затем, по Чаланапской дороге, осторожно обойти неприятеля.
Но едва отряд по узкой тропе, проложенной между скалами, поднялся из оврага, как уже стало ясно, что избежать столкновения с неприятелем невозможно. Неприятельские толпы, медленно передвигаясь и растягивая боевую позицию по гребню высот, уже приближались к дороге. Тогда Багратион выдвинул вправо, навстречу к ним, грузинскую конницу, чтобы под ее заслоном продвинуть семейства армян и, таким образом, идти, отбиваясь одним арьергардом. Но и этот план оказался уже невыполнимым. Персияне увидели намерение Багратиона, и торопились обогнать войска, чтобы перерезать им дорогу. Конница быстро подвезла пехоту,– и на пути движения русских стояли уже грозные вражеские силы.
Перед Багратионом была трудная дилемма. Ему приходилось или вернуться назад, по дороге в Урдабад, с риском подвергнуться нападению в только что пройденном глухом ущелье, или прокладывать дорогу штыками, имея на руках семейства, которые подвергались в этом случае почти неминуемой гибели.
К счастью, бывший при отряде Эксан-хан, хорошо знакомый с местностью, указал Багратиону видневшуюся влево от дороги высокую гору, которая могла послужить отличной позицией. Там отряд мог продержаться весь день, а с наступлением ночи Эксан-хан брался провести его прямо через горы, как некогда ходили отряды Карягина и Котляревского, и как не хотел сделать Назимка, погубивший этим батальон свой на Ах-Кара-чае.
Решившись уступить дорогу неприятелю, Багратион раскинул к стороне неприятеля сильную цепь и поворотил влево, чтобы фланговым маршем достигнуть спасительных высот, до которых было не более полутора или двух верст. Вся шестая рота штабс-капитана Вретова, и взвод второй гренадерской, под командой прапорщика князя Чавчавадзе, рассыпались в стрелки, и под их прикрытием батальон мог идти совершенно спокойно; левее батальона, стало быть уже под двойным заслоном, шел армянский обоз, и спешенные казаки вели на поводу лошадей, навьюченных провиантом. Помешать этому движению неприятель не успел, и скоро весь отряд, за исключением стрелкой, уже стоял на позиции. Подходили к ней и стрелки. Медленно подаваясь назад, под беспрерывным натиском персидской кавалерии, они почти без потери достигли подошвы высот, занятых отрядом. Но тут подоспели два батальона сарбазов, подвезенных конницей, и бой неожиданно принял характер кровавый и грозный. Сарбазы начали сильно теснить правый фланг цепи, где был рассыпан гренадерский взвод, стараясь смять и отбросить его, чтобы открыть себе доступ к русской позиции. Командовавший этим взводом пылкий князь Чавчавадзе, увидел стремление неприятеля, сам бросился в штыки,– и этим неосторожным движением вовлек в сражение большую часть батальона.
Дело в том, что, отбросив в первый момент головные части сарбазов, он вслед затем был плотно сам окружен целой стеной их и вынужден прокладывать себе дорогу назад штыками. Багратион, так счастливо избежавший боя, теперь поставлен был в необходимость выручить зарвавшийся взвод,– пятая рота, вместе с остальной частью гренадерской, под общим начальством полковника Фридерикса, спустившись с высот, ударила на неприятеля. В то же время остальная цепь, уже поднимавшаяся на гору, повернула назад и, со штабс-капитаном Вретовым во главе, бросилась во фланг персиянам. Но помощь уже не могла спасти Чавчавадзе. Выбившись из сил, расстреляв свои патроны, его гренадеры погибали один за другим в неравной штыковой борьбе одного против шести. Напрасно товарищи пытались пробиться до них сквозь густые ряды врагов,– всюду встречали они грозный отпор, и все примеры геройского самопожертвования и подвигов, явленные здесь, не поправили дела. А подвигов этих было много. Командир гренадерской роты, капитан Подлуцкий, увидел Чавчавадзе в толпе неприятелей, бросился к нему на помощь. Но в этот момент, когда отважный Чавчавадзе пал,– получил смертельную рану и сам Подлуцкий. Персияне добили храброго офицера, но они не успели завладеть его головой,– унтер-офицер Кабанов пробил себе дорогу до тела Подлуцкого и вынес его из боя. Тут же, в рукопашной свалке был ранен командир пятой роты, капитан Чубский, и убит прапорщик князь Северсамидзе. Пал и герой Елизаветполя – Вретов, смертельно раненый при первом же натиске во фланг неприятеля. Персияне толпой набросились на него, чтобы отрезать голову, но фельдфебель шестой роты Яковлев, разогнал эту толпу и на своих плечах вынес умирающего капитана. Вместе с Вретовым был окружен неприятелем и прапорщик Лавров, еще совершенный юноша; тяжело израненный, он находился уже во власти персиян, когда в толпу врубился полковник Фридерикс и, вырвав его из рук неприятеля, вынес из боя, уцелев сам каким-то непостижимым чудом.
Нападение было отбито. Убедившись, что все дальнейшие покушения на этот пункт будут напрасны, что большая часть русского отряда стоит именно здесь, персияне повели атаку на левый фланг позиции, где находились только одни спешенные казаки. На одной из горных высот у них появилось даже орудие. К счастью, Багратион вовремя успел придвинуть на помощь к казакам три роты Грузинского полка, и неприятель, заметив это остановился. Бой ограничился перестрелкой. Но стреляли только одни персияне. Гренадерам был отдан приказ не отвечать ни единым выстрелом, приберегая патроны до решительного момента, когда неприятель пойдет в атаку.
Стало уже вечереть, и вдруг в рядах неприятеля обнаружилось необычайное смятение, а вслед затем со стороны Чаланапы показалась рота карабинерного полка, конвоировавшая вьючный транспорт с патронами. Предусмотрительно высланная Паскевичем навстречу к Багратиону, рота эта появилась как нельзя более кстати: неприятель принял ее за сильное подкрепление, идущее к отряду, и стал поспешно отступать к Урдабаду. Карабинеры соединились с отрядом без выстрела.
Сражение окончилось. Потери русского отряда были значительны: один грузинский батальон потерял пятьдесят нижних чинов и большую часть своих офицеров. Все ротные командиры выбыли из строя: Подлуцкий и Вретов убиты, Литвинов и Чубский ранены; погиб и виновник Урдабадского боя, пылкий князь Чавчавадзе, “искупивший своей кровью,– как выражается официальное донесение Паскевича,– честь русского отряда”.
Урдабадская битва осталась памятна на Кавказе как один из тех подвигов героизма и самоотвержения, которые не забываются навеки. То, что в нем поражает с особенной силой, это ряд высоких проявлений поистине братского чувства, которое воодушевляло грузинцев, побуждая сражавшихся, от последнего рядового и до старших офицеров, жертвовать собой за спасение товарищей. Величавый образ полковника, врубающегося в густую толпу врагов, чтобы спасти меньшего из своих подчиненных, и не менее трогательный образ рядового, отнимающего из рук сильных врагов умирающего начальника, чтобы не дать посмеяться над его головой, говорят громко и ясно о той христианской любви, которая в том состоит, чтобы отдать душу свою за друзей своих, и выше которой – нет ничего на свете.
12 августа отряд Багратиона вступил в Кара-Бабу, доведя благополучно спасенные им семейства и не потеряв ни одного человека пленным; все раненые и даже почти все тела убитых, по прекрасному обычаю кавказцев, были вынесены из боя.
В опустевшем Урдабаде персиянам делать было нечего, и Керим попытался перенести свою деятельность в самые окрестности главного русского лагеря. Верстах в тридцати от Кара-Бабы, по направлению к Джульфинской переправе, в горах, стояла небольшая персидская крепость, Аланча, на которую до сих пор никто не обращал никакого внимания. Малочисленный, и притом совершенно изолированный гарнизон ее представлял слишком ничтожную силу, чтобы отважиться на какие-нибудь предприятия,– и покорение крепости предоставлено было времени; персияне естественно не могли держаться долго в отнятом у них крае, и рано или поздно сами должны были уйти за Аракc. Вот эту-то крепость теперь и избрал Керим центром своих операций. И когда под стенами ее появилась многочисленная конница Керима, когда эта конница в один перевод могла нагрянуть на Кечеры, где ходили на пастьбе кавалерийские табуны, порционный скот и транспортные волы, когда всему этому стала грозить ежеминутная опасность, Паскевич встревожился,– и ничтожная крепость вдруг выросла до значения сильного опорного пункта, который оставлять в руках неприятеля было невозможно.
В Кечерах стояла всего одна рота, слишком слабая, чтобы с успехом противодействовать хищничествам необузданных наездников Керима, и Паскевич тотчас выслал туда же три роты Тифлисского полка, дивизион нижегородцев и две сотни казаков, с одним горным орудием, под начальством полковника Муравьева, которому приказано было прогнать Керима за Аракc, а если бы он вздумал запереться в Аланче, блокировать крепость и принудить ее к сдаче. От лазутчиков Паскевич имел сведение, что Аланча построена на высокой скале и что гарнизон ее может быть легко отрезан от воды, которую добывают с большим трудом из небольшой реки, протекающей у самой подошвы скалы.
18 августа Муравьев уже стоял под Аланчой. От жителей, которых успели захватить, он узнал, что Керим-хан с небольшим числом кавалерии отступил к Урдабаду и что под Аланчей был и Ибрагим-Сардарь, командовавший персидскими войсками при Вананте, но перешел уже обратно за Аракc и стоит теперь там лагерем.
Между тем, осмотрев Аланчи, Муравьев должен был убедиться, что сведения о крепости, полученные Паскевичем, далеко не верны. Аланча оказалась на деле почти неприступной твердыней, овладеть которой можно было только в случае оплошности гарнизона. Блокировать ее было бесполезно; правда, воду, текущую в канаве, действительно можно было отвести, как доносили Паскевичу, но в самой крепости находились три родника, обильные водой, и собраны были большие запасы хлеба, позволявшие гарнизону держаться бесконечно долгое время. Очевидно, делать под Аланчей было нечего,– и Муравьев возвратился в лагерь. Вскоре получены были известия, что и последние персидские войска, еще стоявшие в Урдабаде, также ушли за Аракc, без всяких к тому мер со стороны русских.
Прошло после того несколько дней, и неожиданные события под Эриванью вынудили Паскевича оставить лагерь в Кара-Бабе и спешить в Эриванскую область, на помощь к генералу Красовскому.
XXVI. КРАСОВСКИЙ
В июле 1827 года с движением Паскевича в Нахичеванскую область, туда же передвинулся и главный центр персидской войны, а Эриванское ханство, с армянской святыней Эчмиадзином, должны были занимать в ней уже второстепенное место. Между тем обстоятельства сложились под Эриванью так, что в конце концов должны были вновь привлечь к ней все внимание главного действующего 4 корпуса.
В этот момент на сцену персидской войны выдвигается в весьма видной и значительной, роли новая личность,– генерал-лейтенант Афанасий Иванович Красовский, соединявший в себе в одно и то же время качества и смелого, опытного вождя, и неустрашимого солдата. Личность эта настолько замечательна и своей предшествовавшей службой, что должна остановить на себе пристальное внимание историка той эпохи.
Красовский происходил из дворян прежней Слободско-Украинской губернии, Лебедянского уезда. Молодые годы его совпали со временем начинавшихся огромных европейских войн, представлявших для тех, кого щадила смерть, обширное поприще для отличий. Поручиком тринадцатого егерского полка Красовский, в 1804 году, совершил уже плавание из Одессы в Корфу и Неаполь с черноморской эскадрой, имевшей назначение вытеснить оттуда французов и затем идти в Северную Италию. Аустерлицкий разгром помешал осуществлению этой мысли, и эскадра вернулась в Корфу. Но во время обратного плавания, около Мессины, фрегат, на котором находился Красовский, сел на мель и был разбит волнами; страшная опасность грозила экипажу, и только благодаря присутствию духа и необыкновенной для начинающего жить юноши распорядительности Красовского команда его спаслась от гибели. Это было первое служебное отличие молодого человека, давшее ему первую награду – орден св. Анны 4-ой степени на шпагу.
На следующий год черноморская эскадра ходила из Корфу в Каттарский залив, на помощь к черногорцам, и высадила десант около Старой Рагузы. В этой экспедиции был опять и Красовский. Действуя против французов вместе с черногорцами, он участвовал во взятии укрепленных высот Баргарта и в осаде Рагузы, а в 1807 году был в Герцеговине, при обложении крепости Никшич. Военная школа, пройденная Красовским в сообществе таких людей, как обитатели Черной Горы, не могла не обнаружить громадного влияния на всю его последущую боевую деятельность; от них заимствовал он ледяное спокойствие в опасности, неукротимый пыл во время атаки и те своеобразные приемы войны, которые могли быть создана только людьми, приученными к войне всей обстановкой своей обыденной жизни, почти не опускавшими меча с конца XIV века, с того момента, как Сербское царство погибло на Косовом поле.
Когда французы ушли из Черногории, тринадцатый егерский полк был перевезен в Венецию, а оттуда, уже сухим путем, отправлен в состав Молдавской армии, действовавшей под начальством старого фельдмаршала князя Прозоровского. Известны обстоятельства Неудачной кампании, ведомой старым фельдмаршалом. Полку, в котором служил Красовский, на первых же порах пришлось испытать рядом с славными делами и тяжелые неудачи. Он прибыл на Дунай весной 1809 года, в то время, когда русская армия выступала к Браилову. На первом переходе, как рассказывает Красовский, ночью застигла войска ужасная буря с вихрем, грозой и проливным дождем. В неизмеримых степях колонны сбились с дороги и только к утру малыми частями и с разных сторон стали собираться на Рымнике. Во всех этих местах, нужно сказать, водилось тогда множество зайцев, они стадами выскакивали из-под ног солдат и, при общем крике и улюлюканьи, метались в середине войск, так что солдаты ловили их за уши. В этом приятном занятии никто не заметил, как наехал грозный фельдмаршал. Разгневанный и без того ночной путаницей в войсках, он, при виде этой заячьей травли, окончательно вышел из себя, разбранил солдат, а вечером отдал свой замечательный приказ, начинавшийся словами: “К крайнему сожалению и к моему удивлению, вверенная мне российская армия до такой степени ослабела в дисциплине, что и малейший зверь, каков есть заяц, производит в ней беспорядок”…
Дальнейший переход от Рымника совершался уже в боевом порядке. Фельдмаршал ехал вместе с войсками и сам смотрел за точным соблюдением равнения и интервалом между каре. Марш, конечно, от этого замедлялся, и солдаты, томимые зноем и пылью, приходили в совершенное изнурение.
6 апреля, вечером, войска остановились в четырех верстах от Браилова. Сильная крепость была искусно заминирована и требовала правильной осады, но фельдмаршал торопился с ее покорением, и в ночь на 9 апреля назначен был штурм. Ночь случилась тогда необыкновенно темная, не позволявшая сохранить в штурмующих войсках хоть какой-нибудь порядок. Некоторые полки потеряли дорогу и, наткнувшись в темноте на какую-то глубокую рытвину, приняли ее за крепостной ров и закричали “ура!”. Из крепости тотчас открыли сильнейший огонь. И между тем, как одни русские колонны, бесцельно губя людей, блуждали под градом летевших на них снарядов, другие сражались уже на валах и, никем не поддерживаемые, гибли в бесполезных усилиях ворваться в крепость. Взошедшее солнце осветило страшную картину поражения русских войск. Тринадцатый егерский полк, в котором Красовский командовал гренадерской ротой, был из числа наиболее пострадавших на приступе: из целого полка возвратилось назад только двести человек, под командой четырех офицеров, в числе которых был и Красовский. Сюртук и фуражка его были прострелены; рядом с ним пуля поразила в голову и будущего фельдмаршала, тогда еще штабс-капитана, Паскевича, командовавшего в том же полку стрелковой цепью.
Известие о громадных потерях в войсках, ходивших на приступ, глубоко опечалило больного фельдмаршала. Очевидцы говорят, что он во время самого боя сидел на кургане и, глядя на гибель храбрых солдат, обливался слезами. “И хотя Михайло Илларионович (Кутузов) и порывался утешить меня тем, что под Аустерлицем было хуже, но это не послужило для меня отрадой”…– так говорил в приказе по армии сам старый Прозоровский,– полководец, знаменитый, по словам Ермолова, своей долговечностью.
С возобновлением военных действий в следующем году, Красовский, во главе охотников, первым переплыл через Дунай и овладел редутом, прикрывавшим Туртукайскую крепость. Этот подвиг доставил ему орден св. Георгия 4-ой степени, и вместе с тем обратил на него внимание одного из лучших генералов молдавской армии, Засса, который и взял его к себе дежурным штаб-офицером. В этом звании Красовский находился при нем и во время Рущукского штурма. Когда войска, после геройских усилий, вынуждены были, наконец, начать отступление от крепости, Засс отправил Красовского доложить об этом главнокомандующему графу Каменскому. Вместе с Красовскин поехал и генерал-майор граф Сивере, колонна которого почти вся легла на валах Рущука. Каменский с нескрываемым гневом выслушал от них донесение. “Ваша резервная колонна,– сказал он Сиверсу,– еще не была на приступе. Поведите ее сами, покажите пример,– и вы возьмете крепость!” Отважный и пылкий Сивере, не сказав ни слова, сел на коня и, подъехав к резервной колонне, повел ее на приступ. Вместе с ним пошел и Красовский. На самом гребне гласиса Сивере упал, пораженный четырьмя турецкими пулями; и солдаты его рассеялись. Среди всеобщей суматохи, Красовский остался один около раненого графа и вынес его, с опасностью для жизни, на брешь-батарею, где этот молодой, любимый всеми генерал и скончался на его руках. Явившись опять к главнокомандующему с этим печальным известием, Красовский был осыпан ничем не заслуженными упреками. “Я уверен,– сказал ему наконец Каменский,– что в числе лежавших на валу, большая часть здоровых, которые только не хотят броситься в крепость”. Красовский отвечал, что на валу только мертвые. Главнокомандующий отправил тогда своего адъютанта удостовериться, правда ли это. Но смотреть, конечно, было нечего, истина сама бросалась в глаза: все поле покрыто было бегущими солдатами, а на валах по-прежнему чернели отдельными группами лежавшие люди… “Турки,– замечает в своих записках Красовский,– могли овладеть тогда не только всеми нашими батареями, но взять лагерь и даже самого главнокомандующего, если бы он не успел ускакать за Дунай”.
Прямым следствием неудачи рущукского боя было намерение верховного визиря скорее покончить с Сербией, где уже давно пылало народное восстание, и помогавший ей небольшой русский отряд графа Орурка, теперь, когда к берегам Моравы двигались громадные турецкие силы, был слишком незначителен; пришлось отправить туда целый корпус, по начальством храброго Засса. Засс взял с собой и Красовского.
В одном из самых первых дел, при взятии редута на острове Лом-Паланке, Красовский получил тяжелую рану в бок и должен был на некоторое время отказаться от участия в военных действиях. Между тем турки сами перешли Дунай и атаковали Засса. Выдержать особенно сильное нападение пало на долю Менгрельского полка, который был совершенно окружен турецкой конницей. Взрыв зарядного, ящика посреди одного из каре довершил расстройство полка,– и турки захватили орудия. Раненый Красовский сидел в это время на дрожках, при резервной колонне. К нему подъехал опечаленный Засс. “Если бы вы, Афанасий Иванович, были там,– сказал он ему,– этого с полком никогда бы не случилось… Но знаете,– прибавил он,– я полагаю, что ваше присутствие даже и теперь могло бы поправить дело”… “Я готов,– отвечал Красовский,– прикажите только посадить меня на лошадь. Появление Красовского перед расстроенным полком, действительно, вдохнуло в солдат новое мужество. Собравшись вокруг Красовского, полк бросился вперед,– орудия были возвращены… С этой минуты Красовский продолжал лечиться, уже не покидая службы, и принимал деятельное участие в походе за Дунай, в отряде графа Воронцова, который отдал в его командование сербскую дружину, прибывшую из Неготина с известным воеводой Велько Петровичем.
Как известно, этот Велько, природный серб, находился долгое время в числе телохранителей виддинского паши; но когда Георгий Черный поднял в Сербии знамя восстания за независимость, Велько убил пашу, и, явившись с его головой в Сербию, стал славным гайдамаком, о котором ходили в народе целые легенды. Множество рассказов о его сверхъестественной силе и чародействе, охранявшем его от вражеских пуль, сделали имя его грозой и ужасом турок. При одном крике: “Гайдук Велько!” – целые турецкие деревни обращались в бегство. Признательный Георгий сделал его воеводой, и Велько до самой смерти воевал с турками.
С этим-то отрядом Велько Петровича Красовский действовал по большим дорогам, из Виддина к Софии. И если эти действия и не имели особенно важных последствий в чисто военном отношении, то они положили основание доброму братству между сербами и русскими. С другой стороны не оставались без влияния на общий ход военных действий в Сербии и такие подвиги, как уничтожение подвижных турецких колонн, захваты транспортов и разорение “кол”, небольших полевых укреплений; дела эти не вызывали громких реляций, но были дела удалые, славные, память о которых надолго осталась в преданиях сербов. Суровый Велько, до самой геройской смерти своей под стенами Неготина, любил вспоминать это доброе время, пережитое им с русскими братьями; он плакал, расставаясь с Красовским.
Целый ряд отличий, на Дунае и в Сербии, способствовал быстрому служебному возвышению Красовского. Начав турецкую войну никому не известным армейским поручиком, через три года он кончил ее уже полковником, с Георгием и Владимиром в петлице, с бриллиантовыми знаками Анны на шее и с золотой шпагой “За храбрость”.
1 января 1812 года он был назначен командиром четырнадцатого егерского полка и поступил в третью Западную армию, под начальство графа Тормасова. В отечественную войну Красовский встретился с французами в первый раз под Городечной. Вслед затем действуя в отряде графа Ламберта, он овладел местечком Новосвержем; без выстрела, с одними штыками, ворвался он на улицы города и заставил два батальона французов положить оружие. При этом ему достался в плен целый хор музыкантов чехов, принадлежавший к польскому полку Косецкого. Чехи эти служили по найму, и потому охотно согласились перейти на службу к егерям, с которыми вместе и дошли до Парижа.
В деле под Борисовым, когда атака русской пехоты на мостовое укрепление была отбита и граф Ламберт – ранен, Красовский принял начальство над всем авангардом, вторично штурмовал предмостный редут и занял Борисов. Наградой ему за этот подвиг был орден св. Георгия 3-го класса, а его полк получил надпись на кивера: “За отличие”.
За Вильной, под Молодечной, Красовский снова был ранен пулей в живот; но эта рана не помешала ему участвовать во всех важнейших делах 1813 и 1814 годов. За Лейпцигское сражение он произведен в генерал-майоры и получил в команду егерскую бригаду, полки: тринадцатый, в котором он начал свою службу, и четырнадцатый, с которым отличался в отечественную войну. С этой бригадой Красовский бился под Краоном и Реймсом и заслужил золотую шпагу, осыпанную алмазами.



