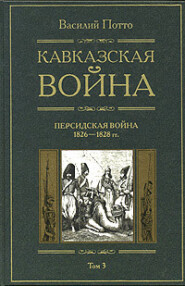 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг.
Таков был человек, становившийся теперь из преданейших слуг Персии – сторонником России.
Паскевич был чрезвычайно доволен возвращением карабагского хана, приветствуя это событие как одно из важнейших. В своем увлечении он перенес и на самую личность Мехти горячие симпатии. “Кроткий характер его,– писал он Дибичу,– так мало сходствует с хвастливой кичливостью его единоземцев, что нельзя не принять в нем участия”. Хан, со своей стороны, действовал весьма политично: он не предъявлял никаких неуместных требований, не прибегал ни к каким изворотам, чтобы казаться правым в своих отношениях' к России, и позволил себе лишь некоторые намеки на прежнее, незаслуженное с ним обращение, которое, будто бы, побудило его удалиться в Персию,– но и об этом он желал говорить только лично с Паскевичем. Подкупала Паскевича и надежда извлечь особую выгоду из родственных связей карабагского хана, через которые он думал вступить в сношения с Тавризом и Тегераном. Хан, увидевшись с главнокомандующим в Нахичевани, ловко поддерживал в нем эти надежды и не скупился на обещания; но чем он особенно обворожил его – это беспрерывным повторением, что безусловно предает себя милосердию государя и ничего не требует. “Я полагаю, однако, не совместным с достоинством и славой императора,– писал по этому поводу Паскевич графу Нессельроде,– если бы хан карабахский превзошел наше правительство в великодушных поступках”. По мнению его, услуги Мехти-хана были так важны, доверие его к России так велико, а отторжение от персиян трех тысяч воинственных семейств наносило им такой чувствительный вред, что он получал бесспорное и полное право на уважение. И Паскевич торопил министерство, как можно скорее испросить высочайшее соизволение на милости, которые обещаны хану. “Это только одно,– писал он,– и может восстановить доверие к русскому правительству, которое по эту сторону Кавказа в последнее время (то есть при Ермолове) крайне поколебалось”. И в Петербурге, действительно, торопились. Приведенное письмо Паскевича, судя по времени, еще не могло прийти, а условия с ханом были уже утверждены, и главнокомандующему оставалось только вручить ему высочайшие грамоты и царский подарок.
Возвращение карабагского хана, и затем личные беседы его с Паскевичем послужили последнему поводом лишь к новым обвинениям знаменитого предместника его, Ермолова, и в особенности ненавистного ему князя Мадатова.
Со своей стороны и Мехти-Кули-хан, осторожно исследуя почву, постепенно все более и более старался воспользоваться расположением к себе главнокомандующего и, раз убедившись в его сочувствии, пустил наконец в ход все извороты коварной восточной политики. Он написал письмо, в котором выставлял себя прямо невинной жертвой русских интриг, обвинял Мадатова в захвате у него угрозами и силой почти половины карабагских земель, жаловался на Ермолова, покровительствовавшего, будто бы, этим захватам, и побег свой в Персию объяснял уже необходимостью спасти свою жизнь, которой, будто бы, угрожали Ермолов и Мадатов. Паскевич. не взвешивал, насколько справедливы подобные жалобы; он тотчас сообщил их министру иностранных дел, прося довести до высочайшего сведения. “Гонения, претерпенные Мехти-кули-ханом,– писал он,– были устроены и приведены в действие с таким бесстыдством обмана и неправосудия, что нет ни одного голоса, который не свидетельствовал бы в пользу гонимого”. Паскевич находил даже, что строгая справедливость требовала бы возвращения хану в управление Карабагской провинции; но, к счастью, и сам он сознавал, что сделать этого уже было нельзя: время и обстоятельства настолько изменили отношения беков к их прежнему владетелю, что возвращение к старым порядкам, существовавшим в стране до удаления хана, являлось не мыслимым. Зато Паскевич требовал суда над теми, кого считал виновными в пристрастных и преступных действиях против хана. “Нужен непременно,– писал он,– хотя один торжественный акт правосудия, чтобы смыть с характера русских начальников те пятна и мрачные краски, которые навели на него поступки отважнейшего корыстолюбца”.
Государь, к счастью, видел дальше донесений Паскевича и не разделял его мнения. Он нашел, что “невозможно быть беспристрастным при том возбуждении, в котором находилась страна”, и приказал оставить все дело до окончания войны, когда жалобу Мехти-Кули-хана можно будет представить на предварительное рассмотрение комитета министров.
Жалобе этой, однако, не суждено было пойти так далеко и после войны, а Паскевичу еще раз пришлось убедиться в правоте и целесообразности политической системы Ермолова. Мехти-хан скоро разочаровал его, выказав те мелочные побуждения и честолюбивые замыслы, которые только и руководили всеми его действиями. Поступки хана настолько стали казаться ему подозрительными, что прошло уже целых девять месяцев после получения рескрипта на возвращение Мехти генеральского чина и, в дар от государя, бриллиантового пера на шапку, а Паскевич все еще не решался передать их хану.
Действительно, безусловная готовность Мехти отдаться на милосердие государя и разные услуги его были только на словах. Хан ровно ничего не сделал из того, что обещал Паскевичу; даже те три тысячи семейств, которые он хотел вывести из Даралагеза, оказались мифом. С ханом явилось только несколько приверженных ему фамилий, и для содержания его вынуждены были отдать ему в Карабаге те семьи, которые или вернулись в русские владения гораздо раньше его, или вовсе никогда не уходили в Персию. Но и этим дела не ограничились. Едва хан почувствовал, что в нем нуждаются, как тотчас же возвысил тон и дал понять, что пенсии в четыре тысячи червонцев ему недостаточно, а что если хотят его сделать полезным, то пусть водворят его в Карабаге вновь на правах владетельного хана,– ссылаясь на обещания, будто бы данные ему в этом смысле князем Абхазовым. Паскевич был взбешен подобной наглостью и приказал объявить Мехти, что “столь невыносимые требования не могут обещать ему пользы”. Он приказал военному губернатору Сипягину следить за поведением хана, а Сипягин доносил, что “хан собирается бежать обратно в Персию, но, не умея скрыть своих намерений, сам же и разболтал о них в пьяном виде”.
Сипягин, впрочем, не делал со своей стороны никаких распоряжений к задержанию Мехти. Он писал Паскевичу, что, по его мнению, бегство хана не составит большой потери для нас и что “четыре тысячи червонцев, назначенные ему, можно будет с лучшей пользой употребить на другие предметы”. Паскевич вполне согласился с этим. Но едва с ханом перестали церемониться – он тотчас же понял бесполезность всяких претензий на политическую роль и примирился со своей судьбой. Он спокойно дожил свой век частным человеком в той самой Шуше, где некогда был неограниченным повелителем.
Нелишнее сказать, что вернулся в Карабаг, несколько позднее Мехти-Кули-хана, и его племянник, Джафар-Кули-ага, некогда наследник карабагского ханства, игравший крупную историческую роль в судьбах своей родины. Сосланный в Симбирск Ермоловым, он еще при жизни императора Александра выхлопотал себе позволение жить в Петербурге, где воспитывались его сыновья, а один из них, Керим, уже служил в лейб-гвардии уланском полку. Когда Ермолов удалился с Кавказа, Джафар просил позволения вернуться туда, чтобы служить в действующей армии. Государь приказал, однако, спросить об этом мнение Паскевича. “Проситель сей,– писал ему граф Нессельроде,– храбр и отважен, ибо получил за отличия в боях чин полковника и золотую, украшенную алмазами саблю; но до того с равной же храбростью сражался и против нас за персиян”. Паскевич нашел неудобным возвращение Джафара; он полагал, что пребывание в одном месте двух кровных врагов, племянника и дяди, может сделаться причиной смятения целой провинции. Он уже перестал верить чистоте намерений обоих. Так и не пришлось Джафару участвовать в персидской войне. Только в 1830 году ему дозволили, наконец, вернуться в Карабаг, и он так же, как Мехти-Кулитхан, дожил свой век на родине частным человеком.
Один из путешественников, видевший Джафара в 1857 году, говорит, что это был уже маститый старик, но что и тогда еще поражало его красивое, типичное лицо, оттененное окладистой бородой, и колоссальная фигура, согбенная летами, но говорившая, что в этом теле было прежде много жизни и силы. Степенность его спокойных движений, его осанка и рост – все выделяло его из толпы почетных беков, тоже рослых и видных людей, тоже выглядевших не простыми татарами. А на Востоке высокий рост и важная осанка служат признаками хорошей крови и аристократизма. Это была одна из тех крепчайших человеческих натур, которую не в силах были сломить обстоятельства и едва одолевали годы.
XXV. СТОЯНКА В КАРА-БАБЕ И УРДАБАНСКАЯ БИТВА
После Джеванбулакской битвы пала крепость Аббса-Абад, и в Нахичеванской области русские стали твердой ногой. Та же судьба грозила теперь и области Эриванской; Сардарь-Абад и сама Эривань, с прибытием к Красовскому осадной артиллерии, которая была уже на пути, конечно, долго продержаться не могли. Персидский двор должен был убедиться в неизбежной потере своих двух провинций и навсегда отречься от них. По известной скупости шаха не было, однако, пока никаких надежд на его согласие уплатить военные издержки,– и войне, таким образом, суждено было продолжаться. Паскевич, отправляя Грибоедова в персидский лагерь для переговоров о мире, в то же время деятельно готовился к новому походу и писал государю, что как ни лестно ему провести несколько дней в шуме побед, но он не должен скрывать от себя, что надежда на примирение еще далека. “Разрушительный способ войны, избранный неприятелем,– говорит он в одном из своих донесений,– опустошение им целых областей и увод жителей, конечно, не для того им вымышлен, чтобы уступить нашим требованиям”.
Ежедневно приходилось убеждаться в важном значении Аббас-Абадской крепости, которая, прикрывая переправу через Аракc и давая свободный вход в неприятельские земли, вместе с тем охраняла позади Нахичеванскую область. И первой заботой Паскевича было исправить, как можно скорее, разбитые стены Аббас-Абада и вообще привести крепость в оборонительное состояние. В покоренной области вместе с тем вводилось и русское управление. Вся военная и высшая административная власть сосредоточена была в лице Аббас-Абадского коменданта, которым, по личному выбору Паскевича, назначен был генерал-майор барон Остен-Сакен; гражданская же часть и непосредственное управление жителями временно оставлены были в руках местных владетельных ханов, вступивших в сношения с русскими. При их содействии порядок в стране, мало-помалу, стал водворяться, жители возвращались в свои дома и снимали жатву, которая иначе могла бы пропасть, обратив весь край в обширную пустыню.
Устроив управление областью, Паскевич оставался некоторое время в Аббас-Абаде для наблюдения за неприятелем. Собраны были сведения, что главные силы персиян сосредоточены в Хое, но что джеванбулакский бой и падение Аббас-Абада внесли такую деморализацию в ряды персидской армии, что серьезных наступательных предприятий ожидать оттуда было невозможно. Обстоятельства складывались, таким образом, весьма благоприятно, и Паскевич уже проектировал победоносный поход. “Если прибудут своевременно транспорты и число больных не лишит меня большей части строевых людей,– писал он государю,– то я иду отсюда не на Хой, где ныне шах,– ибо это не кратчайший путь к столице Азербайджана,– а прямо на Тавриз. Вероятно, шахское войско поспешит туда же; я дам ему сражение,– и город останется за победителем”.
Действительность не оправдала, однако, этих надежд главнокомандующего. Положение и русских войск, вследствие губительного климата, с каждым днем становилось все хуже и хуже,– болезни между людьми умножались, и симптомы их, по свидетельству врачей, были такого рода, что до декабря месяца едва ли можно было ручаться за совершенное выздоровление больных.
К этому присоединился падеж скота, сильно заботивший Паскевича; ежедневно падало по семьдесят и более быков,– и впереди грозило совершенное истощение перевозочных средств. Транспорты со стороны Эривани, таким образом, расстраивались, а из Карабага не приходили, так как дорога через горы еще была недостроена. Паскевич, ездивший самолично осматривать работы, хотя в общем и остался ими доволен, но должен был сознаться, что направление их несколько ошибочно. Взят был кратчайший путь через высочайшую гору Сальварти; и хотя разработка его была произведена весьма тщательно, но подъемы, которых миновать было невозможно, во многих местах все же оставались так круты, что тяжело нагруженные арбы едва-едва могли подниматься на них даже летом, а с наступлением зимы и совсем не могли бы ходить, вследствие беспрерывно свирепствовавших здесь снеговых метелей и вьюг. Была другая дорога на Герюсы, через Ax-Караван-сарай, лежавшая левее Сальварти, по ущелью реки Кара-Бабы; она не представляла таких затруднений летом и опасностей зимой, но не была выбрана своевременно как окружная и теперь требовала бы новой разработки. Между тем надежная коммуникация Карабага с Нахичеванской областью становилась во всяком случае безусловно необходимой, и Паскевич решил немедленно приступить к разработке и этой дороги. Батальон Козловского полка и две роты пионеров, стоявшие на Сальварти, с полковником Евреиновым, отправлены были на работы к Ах-Караван-Сараю.
Невыносимый зной между тем все увеличивал да увеличивал болезненность в русском корпусе. Паскевич рисковал остаться и без людей, и без продовольствия. И вот он решился наконец перенести лагерь из-под Аббас-Абада в горную полосу Нахичеванской области, где сравнительная прохлада и лучшая вода должны были, казалось, оказать благотворное влияние на здоровье войска. Однако мистическое происшествие омрачило пребывание на новом месте: Внезапною лавиной был погребен поручик Семецкий, отошедший по нужде. Каково же было удивление однополчан, когда извлеченный из-под камней бездыханный поручик внезапно ожил и потребовал вина!
“Кратковременное прекращение военных действий,– писал Паскевич государю,– не отвлечет нашего внимания от неприятельских движений. Если он в мое отсутствие в значительных силах и обложит Аббас-Абад, или просто перейдет на эту сторону Аракса, то я быстро спущусь на равнину и, с Божьей помощью, разобью его. Между тем, кроткое обхождение с племенами, населяющими занятые области, частые сношения с жителями и роспуск по домам некоторых пленных подготовят нам расположение народа и по ту сторону Аракса. Отдых же в местах прохладных, укомплектование войск и возобновление запасов дадут мне способы открыть осеннюю кампанию еще с большим блеском”. Дело было спешное, и оно закипело в руках Паскевича. Уже 18 июля из-под Аббас-Абада вышли транспорты и больные, а двадцать третьего числа и последние войска покинули Аббас-Абад и потянулись в горы, к селению Кара-Бабе, прославленному кровавым боем, который здесь выдержал генерал Несветаев в 1808 году; Кара-Баба – один из тех уголков Кавказа, где русский солдат написал своей кровью в летописи кавказской войны знаменательный урок неустрашимости и самоотвержения,– урок, переходивший еще тогда по преданию к молодому поколению в рассказах стариков, свидетелей и очевидцев страшного боя. Войска расположились в Кара-Бабе до наступления осенней прохлады.
Но общим ожиданиям и надеждам не пришлось оправдаться и здесь. Не благорастворенный горной прохладой воздух, а ту же знойную, удушливую атмосферу, еще усиливавшуюся в каменных раскаленных ущельях, встретили в Кара-Бабе войска,– и болезненность в них не уменьшилась, а увеличилась. Официальные источники говорят, что войска привезли с собой сюда тысячу восемьсот человек больных,– и по происшествии четырехнедельной стоянки число их возросло до тысячи девятисот пятидесяти человек. К тому же войска терпели во всем большой недостаток. Один участник похода рассказывает, что Паскевичу приходилось платить по сто рублей за пуд сахара, а офицеры давно уже не видели ни чаю, ни водки.
“Лучше бы было в сто раз,– говорит этот участник похода,– если бы вместо несчастной, нездоровой стоянки у Кара-Бабы, Паскевич, по взятии Аббас-Абада, не останавливаясь повел бы нас прямо к Тавризу. Перейдя Аракc, мы нашли бы хлеб уже сжатым, местность здоровую, жары менее знойными”. Тавриз, с его Азербайджанской областью, действительно славился в Персии хорошим климатом и плодородием там, только фруктов, которые в умеренной полосе не так роскошны и изобильны, как в знойной долине Аракса. Но отсутствие их было одним из залогов уменьшения болезней.
Пока войска стояли в Кара-Бабе, Паскевич приводил в подданство России обитателей левого берега Аракса, и небольшие русские колонны то и дело ходили по разным направлениям, чтобы защищать покорное население от курдов и карапапахов.
Один из самых выдающихся предводителей разбойнических шаек, наделавших русским так много хлопот, был в то время некто Керим-хан, последний правитель города Нахичевани, происходивший от одной из древнейших фамилий края, которая владела некогда наследственно всем Нахичеванским ханством. Когда Аббас-Абад был взят, Керим явился к Паскевичу и предложил ему свои услуги, а в то же время и те же услуги предложены были им персидскому правительству, и дело шло о том, кто больше заплатит. Паскевич постарался, конечно, избавиться от него, и Керим сделал тогда своей специальностью набеги на мирных жителей Нахичеванской области,– ремесло, доставившее ему барыши, которые далеко превосходили и русское, и персидское жалование в сумме. Обстоятельства сложились так, что нашелся и ревностный сторонник России, ставший опасным противником Керима. Это был отважный Насиб-Эксан-хан, владелец Урдабадский, командовавший в Аббас-Абаде, во время осады его, батальоном нахичеванских сарбазов. Когда крепость сдалась, Эксан-хан открыто принял русскую сторону и остался в своем Урдабаде, городке небольшом, но с хорошо устроенной крепостью-замком. Паскевич предупредил его, что он не должен рассчитывать на русские войска, которые не могут защищать Урдабада, так как он выходит из плана военных операций. Но Эксан-хан, желая спасти город и жителей, решился держаться в нем своими силами до последней крайности. Керим не замедлил открыть против него военные действия.
Уже 17 июля, когда войска стояли еще под Аббас-Абадом, от Эксан-хана пришло донесение, что большие толпы персиян готовятся напасть на него; он извещал, что будет защищаться в городе и на людей своих надеется, но что если семейства преданных ему сарбазов, находящиеся по деревням без всякой защиты, будут захвачены персиянами, то возникнет опасность, что и большая часть гарнизона уйдет за своими семействами. Паскевич поставлен был в весьма затруднительное положение. Помочь Урдабаду было нужно во всяком случае. С одной стороны этим показана была бы готовность охранять население, искавшее защиты русских, и в то же время спасен был бы город, который мог послужить передовым постом в случае нападения персиян с Тавризской дороги. А с другой стороны систематическая защита населения, разбросанного на обширном пространстве, вела за собой бесконечное раздробление войск и в будущем служила бы только неминуемо причиной вечных тревог и часто напрасных походов. Надо было приискать среднюю меру. И вот Эксан-хан взялся собрать часть бывшего батальона, еще недавно защищавшего с ним Аббас-Абад, и таким образом организовать свою собственную вооруженную силу, с тем, однако, чтобы ему даны были ружья и пушки. “Я должен был согласиться на это,– говорит Паскевич в своем донесении,– ибо, в противном случае, оставшись без оружия, он, Эксан-хан, поневоле должен бы был сдаться неприятелю”.
19 июля Тифлисский полк, с черноморской бригадой и шестью конными орудиями, под начальством генерал-майора князя Вадбольского, уже вступал в Урдабед. Вадбольский имел поручение сдать Эксан-хану четыреста персидских ружей и четырехфунтовую пушку, взятые в Аббас-Абаде, а затем, если городу не предвидется особенная опасность, немедленно возвратиться в лагерь. Паскевич не хотел, да и не мог разбрасывать свой малочисленный корпус.
Вадбольский нашел в окрестностях Урдабада полное спокойствие. Он узнал, что неприятель далеко и сделает ли нападение – еще неизвестно. Целый день он посвятил, однако, устройству тамошних дел, назначил Эксан-хана нахичеванским наибом, а 21 июля выступил из Урдабада обратно. С ним вместе вышли много армян, и в том числе семейство брата владельца, Ших-Али-бека. Сам Эксан-хан со своими сарбазами остался в городе.
Спокойствие, найденное князем Вадбольским, было, между тем обманчиво. Не успел он вернуться в лагерь, как двадцать третьего числа Керим с конной партией появился верстах в пятнадцати от Урдабада, угрожая угнать на персидскую сторону ближайшие армянские деревни. Жители успели бежать, но скот и часть имущества попали в руки персиянам. Пока разбойники забирали добычу, человек семьдесят с самим Керимом бросились на армянское селение Сиары, лежавшее уже вблизи Урдабада. Эксан-хан с шестьюдесятью сарбазами подоспел на помощь к жителям,– и Керим был разбит; преследуя его, сарбазы сбили также спешивший к нему сильный резерв и взяли в плен Али-Акбер-султана Даранского,– “человека,– как выражается Паскевич,– здесь довольно известного”.
“Таким образом,– писал главнокомандующий в донесении государю,– бывшие персидские подданные, будучи предоставлены самим себе, в первый раз обратили оружие свое против врагов Вашего Величества”.
Неудача, однако, только озлобила Керима,– и он снова двинулся на Урдабад с трехтысячной партией. После сильной перестрелки форштадт был занят, и положение Эксан-хана становилось опасным. Два батальона персидских сарбазов с орудиями окружали теперь замок, в котором заперся хан, а конница блокировала город с другого берега Аракса. Внезапность нападения не позволила принять какие-либо меры к обеспечению татарских семейств, оставшихся в городе, и надо было ожидать, что если неприятель захватит их, то и гарнизон оставит Эксан-хана.
Исход блокады и страшная участь, которая угрожала самому Эксан-хану, если бы он попался в руки персиян, встревожили Паскевича, и в Урдабад форсированным маршем двинулся второй батальон Грузинского полка с сотней казаков и двумя орудиями, под начальством полковника барона Фридерикса. Особым вспомогательным эшелоном, в тот же день и по той же дороге, был выслан к нему и генерал-майор князь Багратион с армянской сотней и конным грузинским ополчением.
31 июля, ночью, явился к Фридериксу бежавший из Урдабада армянин с известием, что положение Эксан-хана отчаянное. Восемь дней с горстью своих приверженцев выдерживал он блокаду в Урдабадском замке, и последние тридцать шесть часов не имел воды. Гарнизон уже колебался и помышлял о сдаче. По словам армянина, у неприятеля пехоты было не более семисот человек, но он располагал зато большой конницей; в составе последней находились, впрочем, целые тысячи невооруженных кочевников, приведенных Керимом исключительно для грабежа окрестных селений. Фридериксу нужно было торопиться,– и армянин немедленно отправлен был назад, чтобы ободрить гарнизон известием о приближении русских.
Наступило утро 1 августа. На походе прискакал к Фридериксу новый гонец, но на этот раз уже с известием, что слух о приближении русской колонны произвел в персидском стане панику, что только один из двух батальонов, осаждавших замок, с командиром более энергичным, по-видимому, намерен защищаться в городе, а другой уже немедленно ушел за Аракc; Фридерикс приказал своим гренадерам готовиться к приступу. Но едва боевые колонны их развернулись в виду Урдабада, как решимость покинула сарбазов,– и последний батальон их поспешно отступил за Аракc. Город был занят без боя. Между тем неприятельская конница, заметив малочисленность казаков, обошла стороной город и вдруг, в тылу отряда, кинулась вся на вьючный обоз. Керим справедливо рассчитал, что если ему удастся отбить транспорт, то русский отряд поставлен будет в необходимость или уйти назад, или очутиться вместе с Эксан-ханом в блокаде, при самых невыгодных для себя условиях, без воды и без продовольствия. К счастью, находившаяся в прикрытии вьюков рота Грузинского полка геройски отразила нападение. А в это время Кериму дали знать, что по дороге к Урдабаду приближается новая сильная русская конница,– то был грузинский эшелон князя Багратиона,– и персияне, опасаясь попасть между двух огней, поспешно отступили. Оба русские отряда соединились в городе, и князь Багратион, как старший, принял начальство.
Удерживать за собой Урдабад, источник вечных тревог, Багратион находил и невозможным, и бесполезным. С уходом русских войск, которые не могли постоянно стоять в Урдабаде, персияне, как надо было ожидать, появились бы еще в больших силах, и участь Эксан-хана, со всем подвластным ему населением, рано или поздно должна была завершиться кровавой катастрофой. Получены были к тому же достоверные известия, что дней за семь перед тем из лагеря наследного персидского принца вышел на помощь Кериму батальон русских дезертиров, которому приказано во что бы то ни стало взять Урдабадский замок и доставить в персидский стан самого Эксан-хана, живого или мертвого.



