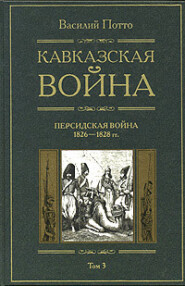 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг.
И вот, чтобы облегчить службу донцов, является мысль вовсе не наряжать их ни в Грузию, ни на Кавказскую линию, оставив оборону тамошнего края исключительно на местном линейном казачестве. Кавказская Линия, сверх старых своих казаков, сидевших по Тереку, имела уже и новых, заселявших Кубань и образовавшихся опять из тех же донцов и частью из екатеринославцев. Могло казаться с окончанием войн, что этих казаков достаточно не только для содержания линий по Кубани, Малке и Тереку, но что они могли бы высылать от себя части и в Грузию. Так, по крайней мере, разрешили этот вопрос, согласно с желанием донского атамана, в Петербурге. Ртищев, бывший тогда главнокомандующим в Грузии, не пытался даже представить дело в истинном его положении и тотчас отпустил на родину шесть донских казачьих полков, а вместо них вызвал на службу линейцев.
В таком положении были дела, когда на Кавказ приехал Ермолов. Проницательным оком оценил новый главнокомандующий всю нецелесообразность подобной меры, и одним из первых его распоряжений было приостановить исполнение высочайшей воли. Четыре донские полка, из числа ушедших на Дон, тотчас были возвращены им назад, и Ермолов писал государю, что служба их на Кавказе необходима, что линейное войско находится в положении несравненно худшем, нежели Донское, что даже в 1812 году, когда на Дону было поголовное вооружение, у донцов не было на службе ни одного казака моложе семнадцати лет, тогда как в линейных полках, напротив, нет ни одного шестнадцатилетнего, который находился бы дома – все на службе, и в станицах остаются только женщины, дети и старики, уже не могущие работать; что нередко выходит на службу отец с двумя и тремя сыновьями, продается имущество, чтобы купить вооружение, которого не хватает на все число служащих казаков, рабочий скот выменивается у горцев на коней,– и многие семьи приходят в совершенное разорение. Конвой линейных казаков, встретивший Ермолова на самом рубеже Кавказа, действительно, произвел на него самое тяжелое впечатление. “Всегда,– говорит он,– отличались они от всех прочих казаков особенной ловкостью, отличным оружием, добротой лошадей. Напротив, я увидел между ними не менее половины молодых, нигде не служивших, и даже ребят. Что заключить должны,– продолжает он,– неукрощенные горские народы о поголовном вооружении линейных казаков? И что могут против них малолетние казаки, тогда как и хорошие донские полки не с первого шага бывали им страшны?”…
Приписывая громадную убыль донских казаков на Кавказе исключительно кратковременности их службы, Ермолов настаивал на том, чтобы донские полки пребывали в крае не два, а четыре года, утверждая, что это не обременит, а скорее значительно облегчит донцов, так как им придется ежегодно наряжать на службу меньшее число полков, а число льготных казаков, между тем, будет увеличиваться в том смысле, что полки с Кавказа уже не будут приходить на Дон в половинном составе, как теперь.
Ходатайство Ермолова было принято, и срок службы донских полков на Кавказе увеличен с двух на четыре года. Но несмотря на это, несмотря даже на то, что смертность в донских полках, действительно, значительно уменьшилась,– сила казачья продолжала падать. Все еще существовали условия, мешавшие правильному развитию ее. Убыль старослуживых казаков заставляла составлять полки и на Дону все же наполовину из малолетков, дурно вооруженных, еще хуже обученных и на плохих лошадях, и потому понятно, что донцам приходилось играть страдательную роль при встрече с проворным и ловким кавказским наездником. К этому нужно прибавить, что состав полковых командиров, назначаемых зауряд, по дошедшей до них очереди, не всегда соответствовал своему назначению, и во главе полков нередко становились люди, кроме донского имени, не имевшие ничего общего с действительной боевой казацкой жизнью. Неразделенность военной и гражданской службы, существовавшая на Дону и сглаживавшаяся в то время, когда шли беспрерывные войны,– теперь начинала приносить свои печальные плоды. Недаром Ермолов в письмах к войсковому атаману жаловался, что в числе полковых командиров он вовсе не встречает на Кавказе имен, знакомых ему с наполеоновских войн. Еще худшее влияние оказало распоряжение, сделанное в 1820 году, по которому цесаревичу Константину Павловичу было предоставлено право всех нерадивых, дурных и порочных донских офицеров немедленно высылать из Польши обратно на Дон. “Дабы оные офицеры на Дону праздно не жили”, последовал указ отправлять их тотчас же на службу в Грузию и на Кавказскую линию,– и общий состав донских офицеров на Кавказе естественно ухудшался. Ухудшалось, конечно, с тем вместе и состояние полков.
Но дела стали изменяться к лучшему, когда в Грузию, в мае 1823 года, для общего заведования донцами прибыл генерал Иловайский. К сожалению, не имеется никаких данных, позволяющих судить о мерах, которыми он достиг лучшего хозяйственного устройства полков, строевого обучения их и нравственного подъема духа,– но результаты его деятельности скоро сказались в славной службе донцов, которой они ознаменовали себя в персидской и турецкой войнах.
Летом 1826 года Иловайский поехал в Москву на коронацию императора Николая Павловича; но он не дождался ее и накануне должен был выехать обратно в Тифлис, по случаю внезапного вторжения персиян. В Тифлисе застало его производство в генерал-лейтенанты и масса бумаг по снаряжению и отправлению в поход донских полков,– и только в 1827 году, управившись с этой работой, он получил назначение состоять в действующей армии при Паскевиче. Блистательное участие, принятое его казаками в решительной Джеванбулакской победе, доставило Иловайскому бриллиантовую табакерку с портретом государя. Но это была последняя его награда. Тяжелая болезнь, постигшая Иловайского на пути к Сардарь-Абаду, заставила его немедленно уехать в отпуск, на Дон, и с этих пор собственно начинается мирный, тридцатипятилетний период его жизни. В 1840 году он окончательно вышел в отставку, поселился в своем родовом имении, и умер в 1862 году, семидесяти семи лет от роду.
Иловайский оставил после себя на Дону народное имя, а признательность монарха сохранила для потомства в портретной галерее Зимнего дворца черты его, удачно схваченные искусной кистью Дова.
XXIII. КОММУНИКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ (Карабаг и Дагестан)
Когда Нахичеванская область была завоевана, когда пал последний оплот ее, Аббас-Дбад, на первый план выступила перед Паскевичем необходимость сношений с соседним Карабагом, откуда, уже по первоначальному плану, русский отрад теперь должен был получать провиант и боевые припасы. Между тем Карабаг, к тому времени, пока Паскевич совершал свой поход и дошел до Нахичевани, успел пережить весьма трудное время.
Вступление в командование Карабагским отрядом генерала Панкратьева сопровождалось решительной отменой всех предначертаний и распоряжений знаменитого предместника его, князя Мадатова.
Панкратьев, как говорит о нем Давыдов, никогда в сущности не был военным человеком, сам сознавал это и давно уже просился в обер-полицеймейстеры. Действительно, выдающихся боевых отличий за ним не имелось. Он начал военную службу волонтером в милиции, собранной в 1807 году, а когда она была распущена, перешел в один из егерских полков, находившихся в турецком походе. Через два-три года главнокомандующим молдавской армией назначен был Кутузов; Панкратьев поступил к нему адъютантом и был зачислен по гвардии. Это собственно и сделало его служебную карьеру. Вместе с маститым полководцем он прибыл к русской армии на Бородинском поле и неразлучно сопровождал его до Бунцлау. По смерти фельдмаршала, Панкратьев назначен был флигель-адъютантом. И вот, на исходе 1826 года, он появляется на Кавказе уже в звании командира второй бригады двадцатой пехотной дивизии.
Панкратьев прибыл к Карабагскому отряду 22 апреля, когда тот стоял близ Худоперинского моста. Новый начальник нашел расположение его на низком месте, подверженном притом неприятельским выстрелам,– и опасным, и вредным для здоровья людей. Переправа через разломанный мост казалась ему немыслимой без больших потерь, которые не выкупались бы результатами; да он не видел выгод даже и в удачной переправе, так как, по мнению его, неприятель, занимавший высоты и утесы правого берега, всегда мог уклониться от боя, отступить внутрь страны, оставив отряд в опасном положении. И на другой же день, 23 апреля, войска снялись со своей позиции и отошли на речку Кара-су. Неприятель с изумлением смотрел на отступление русских и, выдвинув два орудия, провожал их пальбой.
У Кара-су дневали. Панкратьев с двумя казачьими полками ездил на рекогносцировку к стороне Маральяна, чтобы отыскать удобное место для переправы. Течение Аракса там было, действительно, медленнее, могли даже открыться броды; но противоположный берег, высокий и крутой, требовал бы штурма, если бы только неприятель занял его значительными силами. Решено было вовсе отказаться от переправы, а если обстоятельства вынудят перейти в наступление, то переправиться несколько ниже Маральяна, где река гораздо быстрее, но берег отложе и ниже. В сущности и это наступление, должно было, по мысли Панкратьева, быть только демонстрацией, только занимать и тревожить неприятеля. “Больших же движений,– как писал Паскевич государю,—отряд делать не может, по недостатку транспортов”.
На следующий день отрад Панкратьева снова двинулся в путь и стал на речке Козлу-чае, в центральной позиции между Маральяном и Асландузским бродом, выслав две роты с казачьим полком для осмотра дороги к Герюсам… Нужно сказать, что Герюсы были назначены главным складочным пунктом, чтобы сблизить запасы с Нахичеванью, куда скоро должны были прийти главные силы Паскевича, и огромные вьючные транспорты день и ночь тянулись по горным дорогам из Шуши к Герюсам. Шушинские магазины быстро опустели, герюсские, напротив, пополнялись. Специальным назначением Карабагского отряда становилась с этих пор охрана сообщений как здесь, так и от Зардоба до Ах-Углана и далее к Нахичевани, на всей, пролегающей через Карабаг, коммуникационной линии, по которой должны были доставляться в действующую армию жизненные и боевые припасы. Таким образом, сам характер действий Карабагского отряда потерпел радикальную перемену.
Единственным событием того времени, имевшим некоторую важность, было движение генерала Панкратьева, предпринятое им с частью отряда в Эрихлинское ущелье, куда войска ходили на исходе мая, чтобы помочь бывшему владельцу Карабага, Мехти-Кули-хану, выйти из Персии.
Бесплодные скитания по персидской земле видимо прискучили старому хану; он искал более спокойной, обеспеченной жизни под мощным покровом России и ехал на родину частным человеком, без всяких притязаний на какую-либо политическую роль. Паскевич принял его с удовольствием, потому что в лице его из рук персиян выпадало оружие, которым они так долго пользовались, чтобы волновать умы карабахских жителей. Из Эрихлинского ущелья Панкратьев форсированным маршем прошел к Маральяну, где, по полученным тогда сведениям, неприятель, будто бы, переправился на русскую сторону в значительных силах и на заре намерен был сделать нападение на один из вьючных транспортов, выступивший накануне низовой дорогой из Ахпуглана к Шуше. Тревога, однако, оказалась фальшивой.
Пока шушинские запасы шли в Герюсы, а в Ах-Углане устраивался новый складочный пункт, провиант подвозился морем из Астрахани в Баку. Там его укладывали на арбы и отправляли в Сальяны, к устьям Куры, откуда он доставлялся дальше уже сухим путем, средствами Ширванской провинции. Впоследствии стало возможным подвозить провиант, минуя Баку, прямо в Сальяны и потом сплавлять на киржимах вверх по Куре до Зардоба,– что значительно облегчало транспортирование. Вся эта часть коммуникационной линии поступила под защиту дагестанских войск. Действия Карабагского отряда становились, таким образом, в непосредственную связь и зависимость от хода дел в отряде Дагестанском.
Вначале дела складывались, однако, не совсем благополучно. Позднее открытие навигации помешало своевременной доставке провианта. А между тем, когда ни один транспорт еще не приходил из Баку, неприятель уже зорко следил за всеми приготовлениями и пользовался каждым случаем уничтожить русские перевозочные средства. Так, 1 мая между Зардобом и Агджибетом угнано было до ста черводарских лошадей, приготовленных под вьюки; 7 мая более сильная партия, по распоряжению Мир-Хассан-хана, вышла из Талышей, с намерением отогнать весь скот из пограничных карабагских селений. Она шла из Акервана на Лемберан, не зная, что это селение занято русскими, а между тем на самой пограничной черте ее встретили посты Белогородского уланского полка. Происшедшая тут незначительная аванпостная стычка осталась памятна местным жителям тем, что уланский офицер, поручик Маков, сразился один на один с известным персидским наездником Бейрамом. Поединок произошел в виду обеих сторон; Бейрам ранил Макова в ногу, Маков – богатырским ударом разрубил его пополам.
Пока аванпосты отстреливались, неприятель успел, однако же, захватить в ближайших селениях несколько сот лошадей. Выстрелы, между тем, подняли тревогу,– и целый эскадрон белогородских улан, под личным начальством полкового командира, полковника Макова, вышел из Лемберана; на пути присоединились к нему еще три полуэскадрона белогородцев, и неприятель, медленно отступавший с добычей, был скоро настигнут. Стройная атака улан, их рослые лошади, пики с шумящими флюгерами – произвели такое впечатление на талышинцев, что они, бросив добычу, обратились в бегство. Уланы гнали их около пятидесяти верст и нанесли им большие потери.
Схватка эта, сама по себе слишком незначительная, имела, однако, последствия весьма важные. Удайся талышинцам первый набег,– и русским транспортам грозила бы вечная опасность; теперь талышинцы были обескуражены, упали духом, и в течение целой кампании они уже являются не иначе, как в составе персидских отрядов.
В ожидании подвоза войска заняли важнейшие пункты по коммуникационной линии и прочно в них утвердились. Из Дагестанского отряда пришли в Сальяны три роты Куринского полка и сотня казаков; две роты Каспийского батальона заняли Божий Промысел, а две роты куринцев и два эскадрона чугуевских улан, с двумя орудиями, стали в Зардобе; пространство между Зардобом и Сальянами поручено было охране ширванской и кубинской конницы, посты которой непрерывной цепью протянулись по берегу Куры; сильные резервы, собственно и обязанные сопровождать плавучие транспорты, заняли Джеват и Сальяны. Для большей безопасности линии приказано было, как только разольется Аракc, спустить канавы и затопить земли, лежавшие по правому берегу Куры, там, где находились пашни муганцев. Разлив ожидался большой, и на нем основывался важный расчет: наводнение пашен должно было образовать повсюду непроходимые болота, которые могли исчезнуть не раньше августа. Таковы были распоряжения начальника Дагестанского отряда, генерала Краббе.
Панкратьев, со своей стороны, выставил две роты сорок второго егерского полка с сотней казаков и взводом артиллерии в Агджибеты и две роты сорок первого полка в Ах-Угланскии замок.
Коммуникационная линия, таким образом, была образована.
Первенствующее значение на ней получали Сальяны. И недаром Сальяны приобретали в тот момент такое особенное значение; вся местность, в которой они расположены, издавна играла роль пункта, оберегающего доступ в Каспийское море. На острове, образуемом Курой, рукавом ее Акушей и морским берегом, город занимает наиболее защищенный природой пункт, образуемый отделением Акуши от Куры, и сообщается с противоположными берегами этих рек паромной переправой. Кругом – памятники прошлого, свидетельствующие о пережитых городом бурных временах войн и нашествий. На левом берегу Куры, против местечка, тянется длинный земляной бугор, остаток вала, и старожилы рассказывают, что отсюда сальянский хан защищал Сальяны от нападений ханов ширванских. В семи верстах далее, по почтовой дороге в Шемаху, видны следы каких-то древних построек: домов, караван-сараев, мечетей, возведенных из жженого кирпича и камня; предание говорит, что это остатки обширного и богатого города,– первой столицы Ширванского ханства, разоренной монголами еще в XIII веке.
В мирные времена, когда меч вкладывался в ножны, Сальяны немедленно становились важным промышленным пунктом. Издавна были они знамениты своими рыбными промыслами. Петр Великий обратил свое внимание на Сальяны и думал устроить вблизи их гавань и ретраншемент; к сожалению, мысль эта, со смертью великого императора, осталась не исполненной; а впоследствии, когда русские внесли мир в эти вечно воинственные страны, главнейший пункт рыбных промыслов передвинулся отсюда вниз по Куре, в Божий Промысл.
На левом берегу Куры, в четырнадцати верстах от моря и в двадцати пяти от Сальян, стоит обширное местечко, теперь уже целый город, именуемый Божьим Промыслом. Основание его относится к той эпохе, когда, по переходе Ширванского ханства под русскую власть, рыбные сальянские промыслы были отданы в откупное содержание “индейцу” Могундасову. В то время и основана была эта “ватага” одним из подручных Могундасова, астраханским купцом Кафтанниковым, который дал ей и ее теперешнее имя. Во времена персидской войны Божий Промысл был мало кому известен; он не имел тогда еще прочных заведений, кроме нескольких амбаров для складки рыболовных орудий да нескольких камышовых шалашей, в которых ютились рабочие. Климат был нездоровый, и рабочие вымирали десятками от всевозможных лишений и скудной пищи. Лов рыбы производился только с первого мая по первое сентября, а затем весь рабочий народ, вместе с орудиями своего ремесла и наловленной рыбой, отправлялся в Астрахань до следующего года, и на промысле оставались только одни лодки под надзором туземцев. В 1826 году один из персидских отрядов проник до Божьего Промысла и сжег все, что только там находилось. Нашествие это не причинило, однако, больших убытков Могундасову, так как все ценные орудия и рыбные товары были заблаговременно отправлены им в Астрахань.
На эти-то пункты, важные для русских сообщений и льстившие к тому же хищническим инстинктам разбойничьих племен надеждой легкой и богатой добычи, устремились теперь усилия неприятеля. Эти попытки завладеть каспийским побережьем велись одновременно с севера и с юга, от Дагестана и от ханства Талышинского.
Еще с начала апреля по всем окрестным землям стали распространяться слухи, что сын Аббаса-Мирзы, Баграм, сам отправляется в Дагестан и везет с собой четыреста тысяч рублей, да на двести или триста тысяч товаров, предназначавшихся тем главарям, которые возьмутся поднять на русских народы Дагестана.
Говорили, что лучшие белады Кубы и Аварии взялись служить ему проводниками и что личный конвой его будет состоять из ста тридцати отборных лезгин и чеченцев. Ближайший путь Баграма лежал через Ширвань или Нуху, и Абхазов, управлявший в то время мусульманскими ханствами, принял все меры, чтобы не пропустить его через свои владения. Но Баграм мог проехать окружной дорогой через Елизаветпольский округ и Шамшадиль, а еще вернее – переправиться через Куру в Самухах, где неверность беков и даже самих жителей обратилась в пословицу. Таким образом, уследить и перехватить Баграма было почти невозможно. Да вопрос, впрочем, был и не в том, проедет или не проедет Баграм своей особой: личное присутствие его в Дагестане мало бы изменило тамошнее положение дел; важны были самые слухи, волновавшие дагестанцев и заставлявшие генерала Краббе держать войска около Кубы и Дербента, тогда как присутствие их было необходимо в Баку и в Сальянах, на коммуникационной линии, куда уже стали подходить караваны из Астрахани. В Дагестане потребовалось даже усиление войск. Как раз кстати, в это самое время, стали подходить на Кавказ третьи батальоны от полков двадцатой дивизии; их остановили на линии, а целая бригада, полки Тенгинский и Навагинский форсированным маршем двинуты были с Кубани в Ширванскую провинцию; но пока они шли, приходилось с трудом изворачиваться теми ничтожными силами, которые были уже в распоряжении Краббе.
В то же время надо было ждать нападений с юга, и три роты Куринского полка с сотней казаков, под командой полковника Кромина, охранявшие в Сальянах и на Божьем Промысле русские склады, зорко наблюдали пути в стороне Талышинского ханства. До Ленкорани, где стояли персидские войска, считалось около ста двадцати пяти верст, и оттуда скорее всего нужно было ожидать наступление неприятеля. И хотя кругом казалось все спокойно и тихо, однако же транспорты отправлялись не иначе, как с сильными прикрытиями. События на первых же порах оправдали эти предосторожности.
В самом начале июня первое отделение доверху нагруженных киржимов вышло из Сальян и направилось вверх по Куре, конвоируемое ширванской конницей. Прикрытие шло по обоим берегам реки и своими разъездами наблюдало Муганскую степь. Киржимы плыли первые дни благополучно, с каждого ночлега давая о себе известия. В Сальянах снаряжалось уже и второе отделение, как вдруг, седьмого июня утром, показались персияне. Небольшой конный отряд их, верстах в десяти от Акушинской балки, стал переправляться на остров в том месте, где стояли посты Кубинской конницы. Неприятель выдвинул против этих постов фальконет, и едва грянул выстрел,– татары рассеялись и персияне заняли переправу. Кромину между тем дали знать, что по ту сторону Акуши, за этим отрядом, видны значительные силы. Там была уже не одна конница, а шла пехота и тянулся длинный ряд верблюдов с навьюченными на них Фальконетами. Не зная, какое направление возьмет неприятель, Кромин вздумал защищать все переправы по Куре и растянул свой маленький отряд верст на пятнадцать или на двадцать. Неприятель между тем остановился и ночевал на Муганской степи.
На следующий день, часов в восемь, персияне двинулись к Сальянскому острову. Нестойкая кубинская конница, сбитая фальконетным огнем, бежала еще поспешнее, чем накануне; русские войска, со своей стороны, должны были отступать со всех постов и стягивались к Сальянам. До полутора тысяч персидских всадников между тем уже рыскали по острову, угрожая захватить паром и отрезать от Сальян Божий Промысл; верстах в двух ниже, через Акушу, переправлялась на остров и персидская пехота с большим числом фальконетов. Кромин увидел невозможность защищаться в Сальянах, так как неприятель всегда имел возможность обойти его и овладеть Божьим Промыслом, где сложены были громадные бунты провианта и нагружались киржимы. И как ни важно было положение Сальян, отдать которые значило рисковать всем водным путем коммуникации, тем не менее приходилось покинуть их и защищать пока только запасы на месте их склада. К счастью, паром через Куру еще был цел, и войска могли переправиться свободно.
Десятого июня, подходя к Божьему Промыслу, Кромин услыхал сильную перестрелку. Две роты Каспийского батальона, находившиеся при складах, и русский вооруженный катер уже перестреливались с персиянами. Приближение Кромина заставило неприятеля отойти и скрыться на остров. Тем не менее нужно было ожидать новых нападений еще в больших силах – и готовиться к обороне. Так как киржимы второго отделения были уже нагружены и готовы к отправке, то, чтобы спасти их, Кромин приказал спустить их на банку, а из кулей с провиантом сделать укрепление, в середине которого поместились пехота и орудия.
Неприятель занял Сальяны. Часть его конницы тотчас пустилась вверх по Куре, вслед за киржимами первого отделения, которые в тот день ночевали в Джевате. К счастью, в Карабаге уже имелись сведения о том, что происходит в Сальянах, и полковник Абхазов успел принять свои меры: ширванский конвой, сопровождавший киржимы, был усилен, рабочие вооружены, а для большей безопасности из Зардоба, навстречу транспорту, на рысях пошел эскадрон чугуевских улан. Персияне вернулись.
Известия об этих событиях Паскевич получил под Эриванью, во время приготовлений к походу в Нахичеванское ханство. Потеря Сальянов, прекратившая коммуникацию в низовьях Куры, не могла его не потревожить, так как действующий корпус мог очутиться совершенно без продовольствия. Расстраивался весь план кампании. Понятно, с каким нетерпением должен был ожидать Паскевич новых донесений. Но прошло несколько дней, а донесений не было. Тогда Паскевич отправил к Краббе курьера, с предписанием во что бы то ни стало вновь овладеть Сальянами, выгнать персиян и преследовать их за Куру на один или на два перехода. Предписывалось употребить для этого все наличные силы и целую бригаду, шедшую с Кавказской линии. “Даже с посредственными лазутчиками,– писал ему Паскевич с укором,– можно было знать о намерениях неприятеля и, заблаговременно собрав достаточно войск, самому к нему навстречу”…
Курьер застал, однако, все необходимые распоряжения сделанными. Уже девятого числа, когда, следовательно, отряд Кромина не отступал еще к Божьему Промыслу, из Шемахи уже двигались в Сальяны форсированным маршем две роты Апшеронского полка; а вслед за ними туда же направлялись: подоспевший с линии первый батальон тенгинцев, два эскадрона чугуевских улан и двести пятьдесят человек конных бакинских татар, поспешно собранных тамошним комендантом при первом же известии о вторжении персиян. Остальным батальонам, подходившим с линии, Краббе предписал идти без отдыха, чтобы как можно скорее прибыть в Шемаху, куда одновременно с тем отправлены были им из Кубы два орудия. Батальоны, двигавшиеся форсированным маршем от самой Кубани, усилили переход,– и 12 июня в Шемаху уже вступал второй батальон тенгинцев, а 14 там был и весь Навагинский полк.



