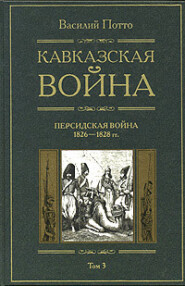 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг.
В один из таких-то моментов пришлось прикрывать отступление через опасный спуск двум орудиям третьей легкой артиллерийской роты, при которых находился сам командир батареи, капитан Соболев. Картечь и пули осыпали его со всех сторон. Красовский видел, что если орудия не удержатся и отступят преждевременно, пехота неминуемо погибнет под натиском неприятеля,– и сам поскакал на батарею, чтобы ободрить артиллеристов. Его встретил Соболев, “веселый и сияющий”. “Будьте спокойны, ваше превосходительство,– отвечал он, выслушав приказание не отступать ни в коем случае,– двадцать персидских орудий меня не собьют!” – И он, действительно, отступил не прежде, как получив приказание. “Мужество и неустрашимость,– говорит Красовский,– достойны изумления!”.
Едва Соболева сменил на спуске другой артиллерийский взвод с полковником Гилленшмитом, как неприятельское ядро раздробило ось у батарейного орудия. Его стали перекладывать на запасной лафет. Неприятель воспользовался этим моментом, чтобы броситься в атаку. Красовский, видя смущение растерявшихся людей, сам явился среди них и очутился под страшным картечным огнем, которым персияне, очевидно, хотели заставить бросить подбитое орудие. Стрелковая цепь на этом пункте скоро была сбита. “Ваше превосходительство! – сказал Красовскому Гилленшмит.– Я вас прошу, оставьте меня с орудием на жертву, но не подвергайтесь сами столь очевидной опасности. Будьте уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы спасти орудие”.– “Я останусь с вами”,– ответил Красовский.
Он приказал двум ротам сорокового полка, под командой майора Щеголева, не уступать ни шагу неприятелю, а сам поскакал к резерву и крикнул: “Ребята! За мной! Выручайте пушку!”
Его воодушевление сообщилось всем. Солдаты врезались в густую толпу персиян, уже .бежавших к орудию, и отбросили их. А пока шла рукопашная схватка, артиллеристы успели подхватить и вывезти орудие.
Сам Красовский едва избежал при этом гибели. Лошадь под ним была убита. Когда он пересел на другую, неприятельская граната осыпала его своими осколками. Он был контужен в руку, и контужен так сильно, что правая ключица оказалась раздробленной. Почти в тот же момент другим осколком убило под ним и вторую лошадь. Поручик Пожидаев, командовавший стрелками, подвел ему свою; но Красовский уже не мог сесть на нее без посторонней помощи; его посадили егеря. “Я старался,– говорит Красовский,– скрывать невыносимую боль в руке и казаться спокойным, чтобы ободрять людей везде, где нам угрожала наибольшая опасность”. А в это время подбежал к Красовскому батальонный адъютант, поручик Симановский, с известием, что неприятель сильно теснит первый батальон егерей, и что майор Щеголев опасно ранен двумя пулями в ногу и голову. Опасаясь, чтобы потеря этого любимого солдатами офицера не поколебала твердости его батальона, Красовский поскакал к егерям. Он нашел их стоявшими под страшным ружейным и картечным огнем; легкое орудие, из батареи Соболева, находившееся при батальоне, бездействовало, а неприятель находился от него уже не более ста шагов. “Отчего не стреляют? Стрелять картечью!” – крикнул Красовский. Но фейерверкер Ковригин спокойно ответил ему: “Ваше превосходительство! У меня осталось только два картечных заряда, и я храню их на крайний случай”… “Я готов”был в ту же минуту обнять и расцеловать этого старого служаку”,– говорит Красовский. К счастью, в это время подвезли зарядный ящик. Орудие грянуло,– и неприятель укрылся за высоты.
Едва отразили врагов на этом пункте, как Красовский заметил, что часть неприятельской конницы быстро перенеслась через дорогу и скрылась слева за гребнем ущелья. Опытным взглядом окинул генерал поле сражения, стараясь угадать причину этого движения, и тотчас же увидел два русские легкие орудия, которые слишком выдавались вперед, без прикрытия, энергично сдерживая своим огнем неприятеля, старавшегося сбить левую цепь. Очевидно было, что эти-то незащищенные орудия и манили к себе персидскую конницу. Закрытая рядом холмов, она была от них уже всего саженях в тридцати, как прискакал сюда Красовский. Бледный, с перевязанной рукой, он соскочил с коня и стал во главе тридцати егерей, прибежавших вслед за отважным начальником. В этот момент часть неприятельской конницы вынеслась на чистое место. Впереди, на чрезвычайно легкой лошади, в красном плаще и с красным знаменем в руках, скакал ее предводитель. Далеко опередив свою конницу, он приостановился на бугре, не далее пистолетного выстрела от батареи. Тридцать пять человек прикрытия не могли бы отстоять орудии. Но прежде чем неприятельская кавалерия стянулась и устроилась к битве, Красовский сам бросился в штыки,– и неприятель, изумленный и расстроенный внезапным нападением, быстро повернул назад. Орудия дали вслед ему карточный залп и поспешно отступили к отряду.
Среди постоянных битв, до последнего, момента, войска сохраняли порядок. И вот перед ними последний подъем, за которым начинается уже равнина. Все сознавали, что здесь-то именно отряд и будет встречен с фронта главными вражескими силами, которые попытаются преградить ему путь к Эчмиадзину; наступала роковая минута, когда, окруженный в десять раз сильнейшим неприятелем, он должен будет идти напролом, чтобы спасти знамена. Картечные заряды были уже все до последнего истрачены. Красовский видел себя вынужденным бросить обозы, но орудия разместил посередине батальона, чтобы не дать врагам овладеть ими. Священник Крымского полка, Федотов, с крестом в руках, пошел впереди, К счастью, гарнизон Эчмиадзина вышел в этот момент за монастырские ворота, и неприятель, опасаясь сам очутиться между двумя огнями, сошел с дороги.
Красовский быстро спустился на равнину и стал в двух верстах от монастыря, чтобы дождаться арьергарда. Стрелкам и казакам, находившимся по сторонам дороги, послано было приказание поспешна присоединяться к колоннам. Но стрелки, изнуренные жаждой, кинулись не к колоннам, а к широкой канаве с холодной водой, и никакие усилия не могли оторвать их от студеной влаги. Неприятель воспользовался этим моментом; вся персидская конница насела на стрелков и принялась рубить их, как умеет рубить только восточная конница. Казаки по своей малочисленности не могли оказать никакой помощи и должны были отступить к отряду. Гибель стрелков стала неизбежной. Многие солдаты в изнеможении ложились на землю и не пробовали даже защищаться. Персияне не брали в плен, а резали всем, и живым, и мертвым, головы, вязали их в торока и с этой кровавой добычей скакали назад, чтобы получить за каждую голову обещанные десять червонцев, большая часть русских трупов и были потом найдены обезглавленными.
В этот-то момент, когда главная опасность для всего отряда уже миновала, паника вдруг охватила русские войска. Артиллерия, не надеясь уже на прикрытие, поскакала к монастырю; за ней все бросилось бежать в таком беспорядке, что арьергард смешался с остальными частями.
Здесь, в бесполезном усилии восстановить порядок, погиб геройской смертью командир Крымского полка подполковник Головин, молодой, даровитый начальник, сраженный тремя персидскими пулями; здесь же получил тяжелую рану командир сорокового полка, полковник Шумский, и здесь же убит был храбрый майор Севастопольского полка Белозор. Последний, еще при начале катастрофы, отдал раненому офицеру свою лошадь, а сам скоро изнемог до того, что солдаты вели его под руки. Измученные сами, люди, наконец, стали отставать от отряда; тогда Белозор сел на камень, достал кошелек с деньгами и, передавая его солдатам, сказал: “Спасибо вам, братцы, за службу. А теперь спасайтесь, иначе вы все погибнете вместе со мной совершенно напрасно”. Наскакавшие персияне сорвали с Белозора эполеты, вероятно полагая, что они золотые, и отрубили ему голову.
Сам Красовский избежал смерти только благодаря счастливой случайности. Он имел неосторожность отделиться от отряда, чтобы ободрить стрелков, и вместе с ними был окружен персиянами. Многие подле него были изрублены; та же участь ожидала и Красовского, уже вынужденного отбивать удары своей тонкой офицерской шпагой. К счастью, при нем находился в это время обер-аудитор Белов, человек замечательной силы и храбрости. Он успел пробиться сквозь ряды персиян и дал знать об отчаянном положении отрядного начальника стоявшему поблизости казачьему полку Сергеева. Пятьдесят донцов, с Беловым и своим полковым командиром, войсковым старшиной Шуруповым, во главе, с отчаянной храбростью кинулись спасать начальника. Очищая дорогу пиками и шашками, они пробились до самого Красовского, многих куртинцев положили на месте, остальных обратили в бегство. Красовский и горсть солдат, бывших с ним, были спасены.
Сражение кончилось. Среди оказанных в нем многочисленных подвигов, подобных тем, о которых рассказано выше, Красовский отмечает в своем донесении геройское поведение фейерверкера Осипова. Ядром перебило ему левую руку выше локтя и жестоко контузило в бок. Товарищи подняли его, чтобы положить на повозку. Но, придя в память, Осипов решительно отказался от этого. Неся правой рукой свою левую, висевшую только на коже, он говорил, что лучше желает умереть подле своего орудия, чем отойти от него. И таким образом он дошел вместе с орудием до самого монастыря.
Есть также известие о геройском самопожертвовании некоего армянина, по имени Акопа Арютинова, бывшего во время сражения в персидской артиллерии. В самом разгаре боя он направлял пушечные выстрелы так, что снаряды ложились не в русское, а в персидское войско. Его арестовали; но он успел бежать во время смятения битвы, но был пойман,– и сардарь эриванский приказал выколоть ему глаза и отрезать нос, губы, уши и пятки. Измученный и обезображенный, он успел, однако, добраться до Эчмиадзина. Впоследствии русское правительство вознаградило его, назначив ему единовременно десять червонцев и пожизненную пенсию в сто рублей.
Перед самыми воротами Эчмиадзина Красовский остановил шедшие впереди войска, чтобы дать время стянуться всему отряду. Солдаты были в таком изнеможении, что замертво падали под тень монастырских стен; и когда ударили подъем, пять егерей, которые не были совсем ни ранены, ни контужены, оказались умершими от истощения сил. Красовский ввел в монастырь только слабые остатки своего отряда, потеряв в этот страшный день весь транспорт, двадцать четыре офицера и тысячу сто тридцать нижних чинов,– потеря громадная, если припомнить, что вся численность отряда едва превышала две тысячи человек.
Эчмиадзин со своей стороны переживал во все время боя минуты страшного сомнения. Один из монастырских иноков, отец Иосиф, сидел на колокольне и с ужасом следил за тем, как две тысячи русских воинов бились, окруженные тридцатитысячной армией самого Аббаса-Мирзы. Весь монастырь молился. Архиепископ Нерсес, облаченный в праздничные святительские одежды, со всем духовенством совершал божественную службу. Все время, пока происходило сражение, он простирал вверх святое копье, омоченное кровью Христа, и просил с коленопреклонением и со слезами победу благочестивому русскому воинству. “Умилительно было это зрелище,– говорит один очевидец,– не только весь народ и солдаты, но и больные и раненые подползали к монастырскому храму – и молились”…
Но вот пушечный гром мало-помалу затих, и остатки русского войска появились перед Эчмиадзином. Монастырь отворил ворота и встретил их с молебным пением и колокольным звоном, как своих избавителей. Архиепископ Нерсес обратился к ним с приветственной речью. “Горсть русских братьев,– говорил он, пробилась к нам сквозь тридцатитысячную армию разъяренных врагов. Эта горсть стяжала себе бессмертную славу, и имя генерала Красовского останется навсегда незабвенным в летописях Эчмиадзина”.
Действительно, впоследствии, в память этого боя, по мысли престарелого патриарха Ефрема, поставлен был монастырем скромный обелиск, в виде часовни, на самом месте сражения, и вместе с тем установлено ежегодно праздновать 17 августа; в этот день все эчмиадзинское духовенство совершает крестный ход к памятнику и служит там панихиду по убиенным в сражении воинам. Высочайшее утверждение об этом памятнике последовало 1 сентября 1831 года. Он стоит и ныне, верстах в четырех от Эчмиадзина, на пути к деревне Ушакан; на медных досках, врезанных в пьедестал, начертаны имена начальников войсковых частей и названия полков и артиллерии, которые сражались в день 17 августа для спасения Эчмиадзинской святыни. Так память о страшной битве будет переходить из поколения к поколения, до позднейшего потомства тех, чьи сердца, в самый день подвига Красовского, колебались между страхом и надеждой и обращались с горячей молитвой к милосердному Богу, прося Его помощи и защиты.
Непосредственным следствием битвы 17 августа было совершенное освобождение монастыря от блокады, которая в ту же ночь была снята персиянами. Как ни велики были потери русского отряда, потери врагов были, вероятно, еще ужаснее, если судить по отчаянной решимости, с какой бились русские войска. Но всего более должны были поразить и страшно повлиять на дух впечатлительных персиян самые обстоятельства боя. Огромная армия оказалась бессильной остановить ничтожную горсть русских, которые, невзирая ни на ужасы смерти, царившей кругом, ни на страшное утомление людей, довели до конца предпринятое движение, не дав врагу ни одного военного трофея,– ни пушки, ни знамени. Персияне должны были чувствовать себя потерпевшими если не поражение,– невозможное при их превосходстве сил,– то несомненную неудачу, напомнившую самому Аббасу-Мирзе знаменитое отступление Карягина. И вот, они сами отступили от Эчмиадзина, отчаявшись в успехе предпринятого плана войны, пока первый шаг в нем, занятие монастыря, встретил столь неодолимое препятствие в русском мужестве.
Трудно, действительно, категорически сказать, был ли Аштаракский бой для русских победой или поражением, тем более, что все движение Красовского представляло собой скорее удачно выполненное, хотя и сопряженное с большими потерями наступление на врагов, осаждавших Эчмиадзин, чем отступление от них.
Так именно и взглянули на дело некоторые современники Красовского, ставящие Аштаракский бой в число самых ярких победных триумфов всей персидской войны. Но были, однако же, люди и совершенно противоположного взгляда. “Персидская война,– пишет, например, один очевидец событий,– была ведена для нас так счастливо, что нам нет надобности скрывать своих поражений, которых было всего два: в Герюсах и под Аштараком”. К числу последних принадлежал и сам Паскевич, имевший к тому и личные неудовольствия против Красовского. Он называет аштаракское дело “странным” и в резких выражениях отзывается о нем в своих донесениях к государю и вообще в Петербург. “Я был поставлен в недоумение,– писал он графу Дибичу,– в каком виде я должен представить реляцию генерала Красовского. Препроводив ее без всяких суждений своих, я дал бы повод думать, что оправдываю действия Красовского и признав изложение их в полной мере справедливыми; присовокупив же замечания свои, я боялся упрека, что строго разбираю поступки моего подчиненного, и без того обвиняемого самими обстоятельствами”.
По мнению Паскевича, Красовскому следовало бы дождаться Кабардинского полка и затем уже совокупными силами идти на неприятеля, между тем как он “безрассудно, с какой-то неизменяемой торопливостью”, как выражается Паскевич, пошел всего с четырьмя батальонами против огромных сил и дал неприятелю случай воспользоваться “сим недостатком соображения”. Все доводы Паскевича блекнут, однако, перед тем фактом, что Кабардинский полк прибыл к Дженгулям только 18 числа, то есть, что битва могла произойти в этом случае только двумя-тремя днями позже, а в это время Эчмиадзин мог быть взят приступом, что нанесло бы неисправимый вред всей кампании, как материальный, так и нравственный, а, быть может, и дало бы Аббасу-Мирзе возможность исполнить свой план,– проникнуть в Грузию. Паскевичу, по его словам, пришлось лично убедиться, что после Аштаракского боя Красовский не только не мог приступить к осаде Эривани, но едва ли бы удержался и в монастыре, если бы Аббас-Мирза захотел вторично атаковать его. “Войска после Ушаканского сражения,– писал он государю,– до такой степени потеряли нравственную бодрость, что при одной фуражировке две роты бежали от появления десятка наших же татар и даже бросили пушку”. Но в словах Паскевича мы видим только предположение, а факт остается тот, что Аббас-Мирза не только вторично не атаковал Красовского, а даже не посмел приблизиться к его войскам, только издали следя за их движениями,– и все планы его о вторжении в Грузию сразу рухнули. Правда, часть главных русских сил должна была идти против Аббаса-Мирзы, которого Паскевич считал арестованным в Чорсе,– но в этом уже не вина Красовского. Так или иначе, но ни один голос в армии не поднялся тогда, чтобы обвинить в несчастных обстоятельствах Аштаракского боя самого Красовского. Все понимали, что если отряд, поставленный в такое тяжелое положение, все-таки пробился, спася знамена и не оставив в руках неприятеля ни одного орудия,– то этим он был обязан только необычайному мужеству и боевой распорядительности своего начальника. Так именно взглянул на дело и сам покойный император Николай Павлович. Прочитав донесение об Аштаракском бое, он написал собственноручно: “дать Красовскому орден св. Владимира 2-го класса”,– и повелел занести событие в календарь[11], с присовокуплением слов: “Столь смелое и удачное предприятие заслуживает быть причислено к достопамятнейшим подвигам храброго российского воинства”.
Заняв монастырь, Красовский был отрезан от лагеря и подходившей к нему осадной артиллерии. Лазутчик пробрался, однако же, 13 августа навстречу к Кабардинскому полку и передал командовавшему отрядом генералу Лаптеву приказание – артиллерию оставить в Дженгулях, а с двумя кабардинскими батальонами и четырьмя орудиями ночью налегке подойти к Эчмиадзину и условным знаком известить гарнизон о своем прибытии. Лаптев с точностью выполнил приказание; ночью с 19 на 20 число, он уже стоял против Ушакана, откуда начинается известное ущелье, и дал условный сигнал. Но, к изумлению генерала, ответа не последовало. Лаптев уже думал, что монастырь взят персиянами, и был в большом затруднении. Через некоторое время он, однако, снова сделал условный пушечный выстрел,– и на этот раз из крепости ему ответили тем же. Оказалось, что там, еще под слишком свежим впечатлением аштаракской резни, считали невозможным, чтобы Красовский полк мог подойти к монастырю без перестрелки, и явилось сомнение, не попали ли приказания Красовского в руки врагов и не сделан ли сигнал персиянами, чтобы заманить русских в засаду. После второго сигнала Красовский, оставив в Эчмиадзине весь сороковой егерский полк, вышел из монастыря навстречу Лаптеву, и, соединившись с ним около Ушакана, утром 20 августа двинулся в Дженгули, нигде не встречая неприятеля.
А в лагере в это самое время переживались весьма неприятные минуты.
Нужно сказать, что накануне, 19 августа, туда прибыла вся осадная артиллерия вместе со своим бесконечным парком,– одна перевозка которого от Тифлиса до Эривани обошлась казне в сорок три тысячи рублей серебром. В лагере теперь было более тысячи повозок разного рода. Длинная улица из маркитантских арб и духанов, разбитых под большими разноцветными наметами, огромные сараи для больных, скирды сена, множество волов, лошадей и длинные ряды повозок, оставленных ушедшими налегке полками,– делали лагерь издали, с гор, обширным, красивым и грозным; в действительности же, если он и был обширен и красив, то уже вовсе не грозен; когда Кабардинский полк вышел навстречу к Красовскому, для защиты лагеря остался, под командой генерал-майора Берхмана, всего один батальон Крымского полка, силой в пятьсот штыков, с тремя сотнями слабо-конных казаков и семью орудиями.
Между тем, в эту же ночь с 19 на 20 августа, Аббас-Мирза перенес свой лагерь из-под Ушакана на левую сторону реки Занги, ближе к Эривани, и стал в пятнадцати верстах от Дженгулинского лагеря. С Дженгулинских гор видны были и пехота его, окапывавшаяся над самым берегом Занги, и кавалерия, рассыпавшаяся вдоль берега речки, и какие-то рабочие, возводившие грозные ретраншементы. И Берхман справедливо думал, что пока Красовский будет в Эчмиадзине, неприятель, пользуясь благоприятными обстоятельствами, атакует Лагерь, и заранее принимал свои предосторожности; он вооружил не только всех нестроевых солдат, но даже черводаров и духанщиков, которых набралось до трехсот человек. Ждать ему пришлось, действительно, не долго.
В десять часов утра, 20 августа, то есть в то самое время, когда Красовский шел в Дженгули, соединившись под Ушаканом с Лаптевым, неприятельская кавалерия стала показываться на горах и вскоре большими толпами начала подходить к лагерю. Одна из кучек, менее, но пестрее и наряднее Других, остановилась на отлогости горы; там был сам Аббас-Мирза, окруженный своей свитой. Прочие подвигались вперед. Но чем ближе подходили персияне, тем движения их становились медленнее,– их очевидно смущала грозная наружность лагеря. Но вот грянула русская пушка, за ней другая, третья… После четвертого выстрела персияне и совсем отступили,– они получили известие, что русские войска идут на них из Эчмиадзина.
Аббас-Мирза не хотел совершенно отказаться от мысли так или иначе вредить отряду Красовского, и с этой целью начал действовать на его сообщения. Продолжая укреплять свой лагерь, он послал 25 августа две тысячи человек отборной конницы в Бомбакскую долину, чтобы помешать, пройти к Красовскому транспортам с провиантом, которые тогда должны были переходить Безобдал. Между тем в лагере оставалось продовольствия только на одну неделю, и потеря одного транспорта могла поставить русские войска в весьма бедственное положение. Красовский немедленно направил к Безобдалу форсированным маршем батальон Крымского полка, который 26 августа застал транспорт еще на месте, в Джелал-Оглы. Известие об этом не могло не встревожить Красовского, и 30 августа выступил другой батальон, теперь Севастопольского полка, при двух орудиях, чтобы как можно скорее привезти в лагерь сухарей, – продовольствия оставалось в полках уже не более, как на три дня.
Приближение к Амамлам с одной стороны батальона Крымского полка, прикрывавшего транспорт, а с другой батальона севастопольцев, высланного Красовским, заставило неприятеля уйти из Бомбакской долины, и 3 сентября транспорт мог добраться до лагеря.
Уже накануне в отряде не было сухарей, и между приунывшими солдатами начинался говор, что не избежать-де им смерти от голода. Красовский лежал в то время больной, жестоко страдая от недавней контузии. С большим трудом он, однако же, встал с постели и отправился в лагерь Кабардинского полка, чтобы ободрить и успокоить солдат. “Вот что, братцы,– сказал он им,– прослужив более вас и проведя не один раз несколько дней без пищи, я узнал из опыта, что можно быть сытым и не евши”. Солдаты изумленно смотрели на него. Но Красовский приказал во всех ротах собрать песенников, распорядившись секретно, чтобы их не распускали до его приказания. И как только грянули разудалые русские песни, солдаты оживились и веселый говор пошел по всему бивуаку. Всю ночь, до белого света, гремели в лагере песни, плясали солдаты и пир шел горой. А рано поутру пришло известие, что транспорт идет и уже близко. Солдаты посмеивались и с любовью глядели на своего командира.
Неприятель выместил свои неудачи разбойничьими набегами там, где он не мог встретить серьезного сопротивления. Так, 2 сентября, сильная партия напала на табуны, пасшиеся возле Джелал-оглы, и отбила до семисот пятидесяти лошадей, быков и овец; прикрытие, захваченное врасплох, потеряло двенадцать человек убитыми и пленными. То же повторилось и 11 сентября, но только на этот раз персияне наткнулись на батальон Севастопольского полка, возвращавшийся в Джелал-Оглы из Гумров,– потеряли весь скот и понесли большую потерю.
Готовились между тем более крупные события. Аштаракский бой повел за собой совершенное изменение всего плана кампании.
XXIX. ПОД САРДАРЬ-АБАДОМ
Наступила вторая половина августа 1827 года, и армия Паскевича уже готовилась к походу на Тавриз, вглубь Персии. Вдруг в главную квартиру пришло известие, что Аббас-Мирза прошел с войсками в Эриванское ханство. Известие это было тем неожиданнее, что, не далее как за несколько дней перед тем, Паскевич имел, по-видимому, достовернейшие сведения из надежных источников о полной деморализации персидской армии, будто бы восставшей в Чорсе вместе с населением, арестовавшей самого Аббаса-Мирзу и разграбившей его имущество. Новые слухи и сведения, однако же, не менее заслуживали веры, исходя из тех же самых надежных источников. На основании их Паскевич и думал, что Аббас-Мирза вошел в Эриванское ханство лишь с некоторой частью своих войск, именно, с шестью батальонами пехоты и несколькими тысячами конницы. Силы Красовского, напротив, он считал гораздо значительнее, чем они были в действительности, ослабленные болезненностью, и был, притом, уверен, что Кабардинский полк, шедший из Грузии, уже успел присоединиться к нему с осадной артиллерией. Поэтому Паскевич не придавал серьезного значения движению Аббаса-Мирзы и с часу на час ожидал известий о его поражении. Между тем никаких известий от Красовского не было. Наконец, пришли донесения от 15 числа, но и из них Паскевич увидел только, что Аббас-Мирза обложил Эчмиадзин, а что Красовский еще стоит в Дженгули.



