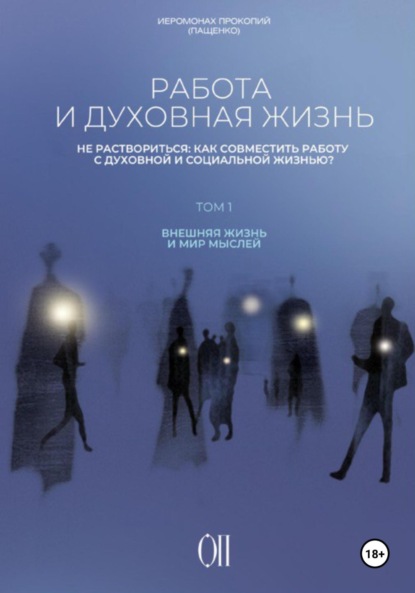
Полная версия:
Работа и духовная жизнь
Но стоит предостеречь желающих использовать эту технологию как жизненную философию. Ее можно применять как инструкцию (аналог инструкции использования для автомобиля). Когда человек использует идею продуктивизма как жизненную философию, он сгорает. Ты должен принимать решения из того факта, что ты человек, а не только руководствуясь идеей эффективности.
«Достоинство человека, – как пишет Виктор Франкл, – запрещает ему превращаться в средство, деградировать до средства производства, до инструмента трудового процесса. Работоспособность – не абсолют, она не служит ни достаточным, ни даже необходимым условием для того, чтобы наполнить жизнь смыслом»[59]. Эти слова взяты из размышления Виктора Франкла, в котором, помимо прочего, он описывает трагедию человека, полностью слившего себя с работой. В случае ее потери, он не знает для чего ему жить.
То есть человек полностью ассоциировал себя со внешним, и вот оно рухнуло. В контексте данного размышления уместными видятся слова В. И. Щербинина, отметившего, что рабом человеком может быть и тогда, когда киркой работает в подземелье, и тогда, когда сидит на мешках с золотом.
В частности, он вспоминал историю порабощения евреев фараоном. Фараон «знал, как из строптивых пришельцев сделать себе послушных рабов. Он не стал сечь их кнутом или заключать в оковы. Это могло бы вызвать бунт. Он поступил иначе – дал им столько работы, чтобы у них не оставалось возможности и времени обращать свои лица к небу». За работу он вдоволь кормил их едой, и «ради котлов со свининой люди забыли свое отечество, откуда пришли, и имя Бога». «Еда и работа – вот предел мечтаний всякого раба, но не богоподобного человека. Раб упорно пробивает киркой путь в подземелье за плошку жидкого пойла и куска хлеба. Но раб и тот, кто сидит на мешках с золотом, наслаждается изысканными яствами, гордо оглядывает свои хоромы, которые он построил своим горбом, покрикивает на слуг и думает, что он уже купил себе свободу и вечное блаженство. Но отнимите у него благополучие, работу или здоровье, и жизнь его рухнет, как сгнивший дом»[60].
Возвращаясь к мысли Виктора Франкла, стоит отметить, что достоинство в христианском смысле выражается не в чопорности, а в способности подняться над импульсами, которые транслируются природной, исторической, социальной, культурной средами, в способности не определяться как ими, так и собственными страстными посылами[61].
Если человек руководствуется только лишь идеей эффективности, то он рискует со временем потерять и личное, а потеряв личное, он потеряет и способность чувствовать нюансы рабочего процесса, то есть потеряет и в профессиональном отношении. Социальная востребованность – не единственный показатель, на который стоит обращать внимание. Ведь и стиральная машина, «тарахтящая» в общественной прачечной – один из самых эффективных и «социально востребованных» объектов.
Если человек, сохраняя личное, изучает систему Дэвида Аллена, то есть шанс, что она ему не повредит. Если же он руководствуется только лишь идеей эффективности, то система подчинит его.
Один из пунктов данной технологии состоит в том, чтобы не оставлять незавершенными циклы рабочего процесса (чтобы «завершить» процесс, не обязательно довести его сию же секунду до конца; продумав стратегию и наметив ключевые действия по ее реализации, человек уже в каком-то смысле «завершает» процесс).
Проблема может возникнуть вот в чем. До применения данной технологии человек способен на личное решение и «незаконченность» процесса его «не напрягает». А когда организована вся система, ты обязан «завершать» каждое начатое дело, т. е. прописан алгоритм для любого действия. Следование этим алгоритмам действительно помогает разгрузить рабочий процесс, но может и лишить тебя внутренней свободы. Ты подчинен внешнему алгоритму[62].
Человек, подчиняя себя внешнему алгоритму, на каком-то этапе успевает больше, но теряет способность внутреннего восприятия ситуации. Все контролировать невозможно. Идея технологии – сделать процесс контролируемым, чтобы успокоиться. Ты ставишь свой рабочий процесс под контроль, но на каком-то этапе процесс все более и более детализируется. Ты понимаешь, что есть вещи, которые ты контролировать не можешь (супругу, начальника и внешние рынки, например). Человек сходит с ума, т. к. есть области жизни, не подвластные его калькуляции. Поэтому к данной системе следует отнестись разумно: встраивая ее сегменты в свое мировоззрение, а не встраиваясь в саму систему в качестве ее сегмента.
К вопросу про время: ты не можешь подняться над потоком дел, т. к. не можешь увидеть его с иной точки зрения. Человек «оглушенный» вынужден принимать навязанные условия. Но если он реагирует на ситуацию по-христиански, у него вырабатываются новые взгляды на происходящее, появляются новые душевные навыки, помогающие и в профессиональном отношении (помогающие делать свое дело лучше).
В частности, здесь можно привести слова преподобного Симеона Нового Богослова, которые хотя и даны были по определенному поводу, но которые можно применить и к разбираемому вопросу: «Внимай добре, отче духовный, и тщательно смотри за сердцем своим, особенно же очисти око ума своего и храни его чистым и не запорошенным, потому что при помощи его ты можешь и за сердцем своим смотреть добре и право обсуждать порученныя тебе дела, по настоятельству твоему, и особенно потребности отцев и братий, чтоб все устроять, как подобает» (заботить о потребностях братии обители – то есть речь идет о навыках, которые в некотором смысле можно сопоставить с кругом дел, и современного работника, радеющего о коллективе)[63].
Главная идея – чтобы подняться над потоком суеты, необходимо воспитывать в себе навыки. Это принцип лягушки, которая попала в молоко и барахтается, чтобы не утонуть. Если она работает лапками, то молоко сбивается в масло, она отталкивается от масла и поднимается.
В Священном Писании есть слова «искупующе время, яко дние лукави суть» (Еф. 5, 15–16; «итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы»). Эти слова упоминал в одном из своих писем иеромонах Серафим (Роуз) и объяснял их следующим образом: «И все же заставьте себя закончить учебу – сами удивитесь: то, что ранее казалось ненужным (даже Кант со Скиннером), вдруг принесет пользу. <…> Разумеется, студенческая жизнь таит немало соблазнов. Но помните: учение само по себе полезно и может пригодиться в христианской жизни. Избегайте пустой суеты и соблазнов, что явно не на пользу. Даже в безбожной обстановке можно “искупать время”, говорил святой апостол Павел, и воспользоваться возможностью чему-либо научиться. <…> Не знаете, что делать дальше?.. Закончите учебу и положитесь на Бога, Он откроет вам путь. <…> Мы не можем прозревать в будущее, но знайте: если любите Бога, Его Православную Церковь и ближнего своего, Он найдет вам применение. Не теряйте связи с другими православными ревнителями (а они есть, не сомневайтесь)»[64].
Дополнить этот совет можно словами одного священника, который не столько дает совет, сколько констатирует факт. Когда человек обращается ко Христу, то всему в жизни человека находится мера и вес. Все познанное им и пережитое складывается в картину, в которой обретают смысл отдельные элементы.
Как можно искупать время? Ситуация поместила тебя на больничную койку и оторвала от планов – используй это время для чтения, совершенствования навыка терпения. На эту тему можно рекомендовать главу «Как враг отклоняет от добрых дел и портит их» из книги Никодима Свято-горца «Невидимая брань». Человек болеет или попадает в больницу, лишаясь возможности активно работать. И мыслит, что был бы добродетельным, если бы работал и был здоров. Демон, внушая эту мысль, постепенно выводит из сознания мысль о добре. Потом появляется ропот. А затем ропот становится доминирующим началом в сознании.
Речь идет о том, что можно реализоваться и на больничной койке. Например, через добродетель терпения можно также совершенствоваться в утешении других болящих. Не теряй время даром, включайся в общественную жизнь больницы. Можно собирать ватные шарики. Ты занят, уныния нет, познакомился с другими пациентами, к тебе благосклонно относятся врачи. И ты уже живешь полноценной жизнью. Люди, которые не знают внутренней жизни, считают, что будут жить только тогда, когда выйдут из больницы, и само нахождение в ней для кого-то из них становится пыткой.
Возвращаясь к теме работы и досуга в контексте размышлений Экзюпери, возможно, нелишним будет привести его мысли: «Бывает, что труд человека превращается для него в мертвый груз». И он начинает ненавидеть свою работу как «игру, где ничего не поставлено на кон и не на что надеяться». Если разорвать жизнь надвое – на работу и на досуг – «работа становится ярмом, для которого жаль души, а досуг – пустотой небытия».
Да, и досуг человеку нужен. Вот сидит плотник на пороге своего дома, а вот под деревом дремлет поэт. Но отдых становится наслаждением, когда человеку было, от чего устать. Когда же человек урезает время труда, чтобы отдать его отдыху, то он получает мертвое время. Он уподобляется зодчему, который значим только, «когда руководит постройкой храма, а не тогда, когда играет с приятелями в кости».
Приносит плод лишь та часть жизни, которой человек принадлежит целиком. Она вмещает и голод, и жажду, она же и становится хлебом для твоих детей. Она становится и твоим воздаянием.
Ты «сбываешься только тогда, когда преодолеваешь сопротивление. Но если ты на отдыхе, если ничего от тебя не требуется, если ты мирно дремлешь под деревом или в объятьях доступной любви, если нет несправедливостей, которые тебя мучают, нет опасности, которая угрожает, – что тебе остается, как не выдумать для себя работу, чтобы ощутить, что ты все-таки существуешь?»
В беседах о времени разбиралась книга «Момо» Энде Михаэль. Главная тема – время. Серые господа стали убеждать людей работать быстро, без души, чтобы сэкономить время. В итоге люди экономили время, но теряли самих себя, а работа перестала приносить им удовлетворение. Они погружались в состояние депрессии и апатии. Когда человек заражен «мертвым временем», его уже ничто не радует в жизни, и он становится подобным серым господам[65].
Опасности и несправедливости, которые подчас окружают человека в рабочем процессе, его, по идее, разрушают. Но мы способны этот аффект претворить в нечто иное, восполняясь в бытии навыком реагирования по-евангельски.
Например, тебе досаждает начальник, а ты за него молишься, стараешься наладить конструктивные отношения. Это поможет и рабочему процессу. Не зря же многие мученики были на вершинах управления Римской империи, были сенаторами, приближенными императора. Великомученик Георгий Победоносец, например, дошел до высокого статуса при императорском войске. Он мог бы сохранить все эти регалии, если бы отрекся от Христа, но он выбрал мученическую кончину. Но не просто так он поднялся по этой лестнице. Значит, были в нем какие-то внутренние задатки, способность конструктивно наладить отношения с людьми.
Да и сейчас рынок так действует, что нужна большая интеграция разных областей экономики. Соответственно выиграют люди, способные эту интеграцию наладить. Я не думаю, что тренинги этому помогут. Тренинги проходили все. Соответственно, когда человек использует примитивные методы манипулятивного воздействия, все остальные люди его действия фиксируют, так как они тоже ходили на тренинги и такие подходы им известны.
Смысл и бессмыслица
Сама успешность в реализации рабочего алгоритма еще не делает человека внутренне счастливым, если внутреннее ядро его личности остается неактивированным. Снова нелишними видятся слова Экзюпери[66].
Вот человек, который грустно застыл у двери и жалуется на жизнь: «Жизнь меня больше не радует. Спит жена, отдыхает осел, зреет зерно. Тупое ожидание мне в тягость, тоскливо мне жить и скучно». Этот человек напоминает ребенка, растерявшего игрушки и не умеющего видеть незримое. Печалит его утраченное время, снедает тоска собственной неосуществленности.
Человек пускается в плавание, обрабатывает нивы, расшивает наряд. Но, что бы он ни делал, все износится очень быстро, ничего не вернув ему взамен – он «сшил одежду, чтобы сносить». Он словно попал на каторгу, на которой «долбят землю только для того, чтобы долбить. Один удар заступом, еще один, и еще, и еще. От долбежки в людях ничего не меняется».
Такой человек ничего не нарабатывает своей жизнью, и его жизнь не является повозкой, увлекаемой по пути к свету. Те люди, которые кажутся ему счастливее, богаче его «только знанием о Божественном узле, что связует все воедино».
Человек – это только повозка, и ты пускаешься в путь. Ты не можешь справиться с каким-то опытом сейчас, но ты можешь начать путь восхождения. И тогда тебе откроется смысл происходящего, сформируются некие навыки, активируются нейронные сети, на основании которых ты сможешь ситуацию осмыслить и даже изменить. Процесс, который одному кажется тупой бессмыслицей, для тебя наполняется смыслом. С точки зрения П. К. Анохина о функциональных системах, это можно объяснить биологически.
В беседах 5-й части «Остаться человеком…» мы разбирали принцип функциональной системы применительно к идее выживания узника и применительно к идее рабочего процесса. Функциональная система объединяет разные области мозга. Если сказать совсем упрощенно и применительно к разбираемой теме, то можно насчет функциональной системы сказать, что она способна объединить идею о бессмысленной работе с другой областью, наделяющей первую идею смыслом[67].
Например, Федор Конюхов переплывал Тихий океан, плыл 150 суток и делал по 10 тысяч гребков в день. Он каждый гребок делал с Иисусовой молитвой, соответственно, в этом делании он возрастал. Гребки не убивали его монотонностью, а, наоборот, усиливали то, что способствовало развитию его жизни. Он молился, в нем пробуждалось то, что связано со Святым духом. Именно личное начало поднимало его над ситуацией в целом. Соответственно, «Божественный узел соединяет все воедино», т. е. человек может разрозненные части жизненного процесса сложить в некое единое осмысление. Переплывая океан, Федор вспоминал плавание Ноя во время потопа, звук уключин напоминал ему звук церковного кадила. То есть в его сознании активировалась картина, включающая дробные элементы в единое целое[68].
Подобные истории встречаются и в древних повествованиях. Так о некоем старце рассказывалось, что его келия находилась на расстоянии двадцати миль от воды. Однажды, идя за водой, он устал и подумал о том, чтобы перенести келию поближе к воде. Обернувшись, он увидел некоего следующего за ними и «замечающим его следы». «Я – Ангел Господень, – сказал явившийся, – послан исчислять твои шаги, чтоб за каждый из них ты получил мздовоздаяние». Услышав такое, старец укрепился духом и стал терпеливо переносить отдаленность от воды.
Или: у одного старца был ученик, насчет которого демоны сокрушались, говоря, что не могут к нему приблизиться, так как он строит и разрушает. Желая понять, в чем дело, старец спросил ученика о его жительстве, не унывает ли тот. Ученик же, указав рукой на лежавшие около него камни, сказал: «Из этого камня я строю стены, а потом снова разрушаю их и, поступая так, не ощущаю уныния». «Тут великий старец и понял, что бесы потому не могли приблизиться к его ученику, что никогда не видели его праздным, и стал поощрять ученика к продолжению труда». Комментируя эту историю в разговоре с другими, старец отмечал, что ученик не приносил своим деланием прибытка [материального] ни себе ни другим. Но за счет того, что он не был празден, «бесы не находили возможности приблизиться к нему»[69].
Или: однажды один подвижник спросил святого Марка насчет помыслов. Помыслы одолели подвижника, внушая ему, что тот ничего не делает, а потому, мол, должен уходить с избранного им места. Авва же дал такое совет: «А ты в ответ скажи этим помыслам, что тут я ради Христа стены сторожу»[70].
Соединяя данные примеры с уже неоднократно упомянутой статьей «Тирания мысли и алкоголь…», можно вспомнить и о некоторых размышлениях Ивана Ильина насчет работы (в статье мысли Ивана Ильина приводятся в том контексте, что некоторые люди не видят смысла в своей работе и начинают пить). «Священное помогает отыскать смысл в будничной работе. Если этот смысл погружается в глубину сердца, то повседневность воспламеняется “лучом его света”. Будни преображаются изнутри, наполняются смыслом, оживают. Если человек не осветил свои будни светом Евангельских заповедей, то будни давят на него своей “беспробудностью”. И человек стремится с помощью химического реагента раскрасить давящую на него серость в пестроту».
Нельзя делить себя на работу и отдых. В таком ключе человек и во время работы не живет, и во время отдыха не отдыхает. Применительно к реальности: удаленный доступ на работе, совещания посредством сети интернет не позволяют человеку иногда отвлечься от работы и восстановить свои силы в молитве и созерцании.
Но ведь за экран можно поставить лампадку. Святые отцы говорят, что есть молитва, а есть память Божия – мысль о том, что Господь рядом. Она заменяет молитву. Ты не всегда можешь читать Иисусову молитву, потому что вынужден вовлекаться в интеллектуальный труд, думать. Если человек внимает только речи и может заснуть от монотонности совещания, то тут постоянно себя оживляет тем, что присутствует память Божия. Т. е. его сознание живет, дух живет. Он может в каком-то смысле подняться над беседой, увидеть в беседе новые грани.
Можно вспомнить митрополита Антония Сурожского, который рассказывал, что к нему обратилась бабушка за советом, как научиться молитве. Он посоветовал поставить лампадку или иконку и поглядывать, даже без молитвы. Когда смотришь на лампадку или свечу, мысль о Боге возобновляется. Если свеча стоит рядом с компьютером, человек строчит по клавишам и полностью погрузился в этот процесс, то время от времени пламя свечи напомнит о Боге, возбудит ту часть личности, которая активна во время молитвы в храме.
Здесь можно сослаться на реальный опыт одного заключенного, который 30 лет провел в заключении. Вот что он писал о своей духовной жизни и о почитании им схиархимандрита Серафима (Тяпочкина), который, кстати, в годы гонений на веру прошел через давление и концентрационные лагеря: «Последние четыре года я тружусь в швейном цехе по 15 часов в день без выходных. Фото отца Серафима в рамочке я закрепил на своей швейной машинке, так что батюшка отец Серафим целый день рядом со мной. Когда мне тяжело, один мимолетный взгляд на батюшку успокаивает меня»[71][72].
Комментируя этот опыт, можно упомянуть одну мысль преподобного Макария Оптинского. Он не советовал долго смотреть на иконку, иначе это может привести к прелести. Он не описал в ответе суть причинноследственной связи, но дело, возможно, состоит в следующем. Если человек долго смотрит на любое изображение, то возникает обман зрения и изображение начинает приобретать объем. Лицо, например, выступает из картинки. Во время молитвы в полумраке храма, если мы долго смотрим на икону, то на каком-то этапе она может зашевелиться. Но это просто оптический обман. Человек с лабильной психикой может воспринять это как чудо. На икону можно поглядывать время от времени (во время земных поклонов, например), при этом зрительный контакт прерывается и опасности не возникает из-за отсутствия эффекта непрерывности.
Вспоминая приведенный выше совет митрополита Антония Сурожского смотреть на лампаду, можно в контексте сказанного вспомнить о преподобном Серафиме Саровском, который советовал смотреть на свечку. На Соловках многие службы проходят в полумраке храма, так вот именно свеча или лампада удерживают внимание.
Учиться сохранять личное и на работе, и во время отдыха
Когда есть молитвенное делание, то оно может сопровождаться ощущением Божественного присутствия. Во время работы и во время отдыха личное начало постоянно активируется. Мы не зацикливаемся на текущем регламенте. У нас всегда остается иной взгляд на происходящее. Нет времени молиться, значит, надо привыкать совершать это по ходу действия. Не жаловаться, не сетовать, что времени нет.
Когда поступает звонок, следует не просто включиться в этот водоворот и снять трубку, а сказать про себя: “Господи, вразуми меня, что мне сказать”. Если есть возможность, то прочитать Иисусову молитву.
В этом смысле можно сослаться на опыт одной женщины, которая работала штукатуром. Она как-то пожаловалась иноку Трофиму (убиенному в Оптиной Пустыни в день Пасхи): «Домой приду – стирка, готовка, и уже падаю в кровать». И вот что он показал: как за работой молиться. Зачерпнул раствор, штукатурит и говорит с каждым нажимом: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». «С тех пор, – говорила женщина, – как возьму инструмент в руки, так сама побежала молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Без молитвы уже работать не могу»[73].
В этом, кстати, принцип благословения. Некоторые иронизируют: «Батюшка, благословите носки надеть». Считают, что это глупость. На самом деле люди берут благословение не вследствие тупости, когда сами не могут решить, а для сохранения в себе памяти Божией. Люди сами могут разобраться, как носки надевать и куда сесть в машине. Но благословение помогает делать любое дело с памятью о Боге.
В качестве иллюстрации можно сослаться на эпизод из книги про схиархимандрита Виталия (Сидоренко), возглавляющего общину сестер. «Отец Виталий всегда требовал, чтобы ничего не делали без его благословения. Те, кто жил у него на послушании, так и поступали», брали благословение на то, чтобы воду налить, картошку почистить. «Так через освящение всякого дела воспитывалось постоянное памятование о Боге»[74].
То есть брали благословение на чистку картошки. И после этого сестры картошку чистили с молитвой, с памятью Божией. Они выполняли механическую работу не как автоматы, как роботы, а как христианки, как живые личности.
В заключение вспомним и про одну паломницу, которая закатывала огурцы. Этот образ стал уже классическим примером. Сейчас в монастыре есть благоустроенный цех в трапезной. Раньше работники трапезной ютились в очень маленьком помещении. В настоящее время много паломников приезжает, которые готовы помогать нам трудами, а раньше приезжали единицы. Собирали урожай огурцов. Одна паломница часами закатывала банки. Очень быстро набивала банку огурцами. Но последний огурчик очень долго примеряла и тратила на него времени столько же, сколько почти и на всю банку. Брат, который отвечал за процесс всех этих работ, торопил ее, желая ускорить процесс. Мол, что она копается, пусть не кладет этот последний огурец в банку, думая, как раздвинуть для него место.
Паломница же отвечала, что это огурец помогает ей жить. Если она будет просто засыпать огурцы в банку, то станет роботом. А пока она перетряхивает банку, ища место этому огурчику, она и живет как человек.
Чтобы понять, каким образом личность может быть сохранена в условиях вовлеченности во внешнюю деятельность, не мешает также понимать, чем личность отличается от индивида. Индивид обусловлен внешним, своей страстной природой (индивид пытается закрепиться в реальности через идентификацию с предметами: через покупку новой модели телефона, через презентацию своего фото на фоне престижной модели авто). Индивид просчитан, его природа раздроблена, он обладает, как писал Лосский, не целой природой, а отдельными качествами (он пытается закрепиться в реальности, ассоциируя себя с приобретаемыми навыками, например, целиком уходя в идею лидерства или стимулируя в себе маскулиность, и вследствие такой стимуляции, утрачивая чуткость и способность к пониманию других)[75]. Личность – тот, кто через любовь и духовную жизнь объединил в себе разные качества. «Личность “другого” предстанет образом Божиим тому, кто сумеет отрешиться от своей индивидуальной ограниченности, чтобы вновь обрести общую природу и тем самым “реализовать” собственную свою личность».
Эта идея комментируется описанием, сделанным в отношении жизни преподобного Антония Великого. Развиваясь в делании подвижничества, он, подмечая у кого-то свойственную тому человеку добродетель, старался подражать этой добродетели. И таким образом воплотил в себе добродетели всех. То есть реализовал в себе лучшие стороны других, вследствие чего он всех начал превосходить славой, «однако же, продолжал пользоваться общею любовью»[76].
Любящий человек учится от каждого встречного. Например, есть организованный начальник, у которого точность переросла в «заорганизованность». И пусть подчиненный не станет таким организованным (в патологическом смысле), но воспримет, например, идею аккуратности.
Постскриптум
В заключении к части 3.1 ставится вопрос, озвученный одной девушкой, работавшей вроде бы «ярко» и «крупно», но не получавшей удовлетворения от своей деятельности, несмотря на престиж должности и, соответственно, высокий размер оклада. На определенном этапе жизни ей как бы стало претить, что она занимается определенным функционалом, а личность при этом как бы «остается в стороне». Искать свою личность она надумала в международных путешествиях, но на проверку и они не принесли ей искомого «со-частья» (сопричастности чему-то большему, чем она).



