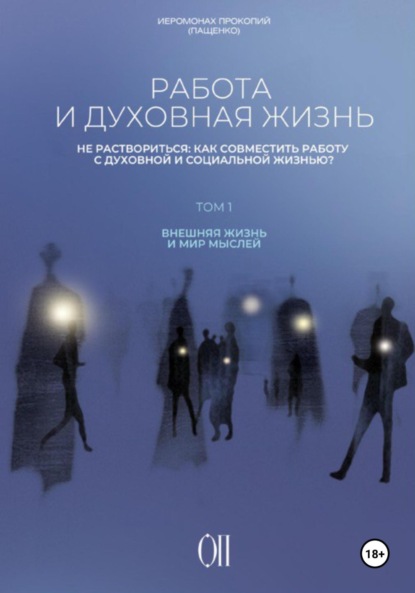
Полная версия:
Работа и духовная жизнь
Параллельно процессу потери «сапиентности» идет процесс приведения человека «к некоей абстрактной усредненности», лишения его «национальной культуры, традиций, привычек, характера, эмоций» [как декларируется, этот процесс запускается во имя благих целей, во имя того, чтобы менее люди конфликтовали на почве различий]. Национальные культуры подменяются цивилизацией, культура отдельного человека подменяется медиа [образами, речевками, символами, транслируемых Сетью]. Параллельно разворачиваются процессы, вследствие которых «корпорации получают новую управленческую систему, которая позволяет следить за каждым сотрудником, применяя наказание за любое нарушение корпоративных правил, постоянно отслеживать эффективность и мотивацию, стимулируя их в моменты ослабления»[95].
В этом смысле можно привести лозунги Соловецкой тюрьмы, которые чем-то напоминают лозунги современной финансовой структуры. «Ударники отделения, апрельский план должен быть выполнен к 25 числу». «Соревнованием добьемся выполнения контрольных цифр и улучшим свой быт».
Из зарисовок лагерного быта, в некоторых своих «моментах» напоминающего быт людей, живущих в гражданском обществе, можно привести слова трагически погибшего профессора Авдеева. Профессор работал в концентрационном лагере в том бытийном пространстве, которое называется «офис». «…Я работал, – рассказывал он, – счетоводом – на командировке одной, верстах в двадцати от Кеми. Это тоже не легче прачечной или просто каторги… Только я был прикован не к тачке, а к столу. На нем спал, на нем ел, за ним сидел по пятнадцать-двадцать часов в сутки… Верите ли, по целым неделям вставал из-за стола только в уборную»[96] [а водители, работающие в одной современной компании, в кабину машины берут пластиковую бутылку для «отправления естественных нужд», так как логистический маршрут, составляемый Искусственным Интеллектом, построен таким образом, что у водителей нет пауз даже на реализацию такого рода дел].
В этих условиях актуализируется вопрос, как человеку остаться человеком? Как найти путь к внутреннему миру, сохранить способность к духовной жизни, даже и находясь среди, на первый взгляд, неблагоприятных для того обстоятельств?
Внутренний облик и доминирующий тип реакции
Чтобы разобраться, как нам жить во время рабочего процесса, нужно понимать центральную идею христианства. Во время земной жизни мы формируем в себе те содержания, которые перейдут с нами в вечность. На эту тему можно привести массу высказываний духовных авторов. Некоторые мысли по данному вопросу изложены в главе «Смысл и цель христианской жизни», в первой части статьи «Преодоление травматического опыта. Христианские и психологические аспекты»[97].
Когда в нас есть это понимание, тогда не приходится искать мотивацию для работы. Любой труд, любая наша активность (мыслительная или внешняя), сопровождается формированием нашего духовного облика. Любые мысли или действие (даже малейшее) накладывают на нас печать. Это переформулированная применительно к нашей беседе мысль Игнатия (Брянчанинова): «Каждое дело, слово и помышление, как благое, так и злое, непременно кладет на нас соответствующую себе печать. Надо это знать и знать»[98].
Наши внутренние содержания формируются из большого числа небольших откликов. Характер, «окрас» этих содержаний обуславливает либо присутствие у нас способности радоваться жизни, либо отсутствие этой способности. Человек, который по-христиански старается жить, думать, мыслить, на любом месте и без видимых причин становится радостен. Над ним работа не довлеет, даже если работы много. Если же человек привыкает брюзжать, роптать, то формируется некий страстный духовный облик. Страсть – доминирующий тип реакции. Все вызывает в нем раздражение и досаду. С этим обликом он переходит в вечность.
Точка опоры и вечность
Виктору Франклу принадлежит мысль: чтобы выжить в экстремальных условиях, нужно иметь опору в будущем. Речь идет о некой точке в перспективе, которая устремлена своим действием из настоящего в будущее. Настоящее может быть кошмарным, но если точка опоры в будущем, то появляется возможность пережить кошмарное настоящее. Франкл описывал эту идею очень детально. Для христиан эта точка формируется сама собой – она в вечности.
В вечность забираем то состояние, которое формируем в жизни земной. Любое действие формирует в нас соответствующий отклик, сумма откликов формирует духовный облик. Каждое действие и каждая мысль, таким образом, имеют значение.
Франк писал, что «человек должен быть направлен на какую-то цель в будущем»[99]. Тот, кто не верит в свое будущее, тот погибает. Лишаясь духовной опоры, он позволяет себе опуститься. Душевному упадку предшествует телесный, и этот телесный упадок иногда происходит в виде кризиса, признаки которого хорошо знакомы лагерникам.
Кризис проявляется в том, что однажды человек остается лежать на нарах, отказываясь идти умываться. Он перестает реагировать на удары, отказывается подниматься, он уже ничего не хочет. «Он лежит в собственной моче и экскрементах, но даже это его не трогает».
Опускался тот, у кого не оставалось точки опоры. Человек, который не мог предвидеть конец временного существования, не мог направить свою жизнь к какой-то цели. Не мог ориентироваться на будущее, что нарушало структуру его жизни, лишало опоры. «Сходные состояния описаны в других областях, например, у безработных. Они тоже в известном смысле не могут твердо рассчитывать на будущее, ставить себе в этом будущем определенную цель».
Жизнь такого человека, не имеющего опоры на «цель в будущем» и потому опустившегося, приобретала характер какого-то ретроспективного существования. Вследствие ориентации мысли на прошлое, настоящее обесценивалось, человек переставал видеть возможности воздействовать на действительность. Духовно восстановить и выпрямить человека можно было бы, «сориентировав его на какую-то цель в будущем».
Если человек помнит, что каждое мгновение он формирует в себе отклик, с который войдет в вечность, то у него как бы сама собой сохранятся возможность присутствия на работе. Под словом «присутствие» подразумевается такой настрой, при котором человек присутствует на работе как целостное существо со всем своим внутренним миром и личностными задачами, а не как «усеченный» и «сведенный» к производственной функции обрубок.
Сохранение личного на работе и идея трезвения
Как сохранить личное присутствие в работе? Существуют светские, полуэзотерические подходы. Например, такие, как жить «здесь и сейчас», идея «осознанности».
Роботизированный человек теряет себя в работе. Чтобы сохранить себя в труде, ему предлагают сконцентрироваться на экране, на кончиках пальцев (когда он, например, набирает текст на клавиатуре). Усилием воли человек концентрирует себя на внешних моментах (мол, он осознает себя «здесь и сейчас» стукающим по клавиатуре), но это приводит только к перегрузке психики.
Чтобы быть «осознанным», «здесь и сейчас», он использует некоторые приемы, смотрит на стену, например. Все это применяется, чтобы быть в «текущем мгновении».
Часто ссылаюсь на монаха, бывшего раньше эзотериком, который практиковал в свое время такие методы. Он как-то сидел и смотрел на стену, «осознавая» себя через это смотрение. А потом он понял, что в отмеченное время он не читал, не молился, а просто сидел и «тупо» смотрел на стену. Или он как-то ходил и концентрировался на своих движениях, чтобы быть «здесь и сейчас» (вот, мол, двинул рукой, а вот, мол, двинул второй рукой). В итоге за несколько часов такой практики он устал так, будто напряженно работал всю неделю. Ему стало понятно, что такого рода практики неестественны для человека, что человек входит в некое аномальное состояние для своего организма.
Кстати, еще академик Ухтомский писал, что «высшее сознание… несет на себе высшие задачи, ему некогда заниматься частностями и деталями, оно интерполирует наскоро [внешнюю реальность], дополняя от себя то, что не успело рассмотреть!»[100] (интерполирует – достраивает образ реальности, используя наработанные ранее представления). То есть если человек начинает популярную идею «осознанности» воспринимать близко к сердцу, то искусственно смещает акцент во вне на какие-то произвольно выбранные объекты. И, как следствие, что-то перестает замечать в общей картине мира, перестает воспринимать что-то внутри себя и анализировать свои внутренние процессы.
В качестве аналогии можно привести принцип, применимый в рукопашном бое: человек щелкает пальцами – противник отвлекается, в это время ему наносится главный удар. В «Книге пяти колец» знаменитый фехтовальщик Миямото Мусаси описывает принцип отвлечения внимания человека в главе «Привести в смущение». Мусаси рекомендует в качестве одного из приемов замысловато двигаться и заставлять противника думать лишние думы, наблюдая за его движением. Когда противник наблюдает за движением, его ловят в некий ритм, что озадачивает его дух. Он приходит в смущение, и его разят, «это – суть схватки».
То есть, если человек напряженно наблюдает за чем-то внешним, еще не значит, что он делает что-то полезное, особенно если одновременно дух его приходит в смущение и попадает в навязанный извне ритм. После нескольких часов подобной работы, возникает чувство, словно целый день «пахал». Человек выжат как лимон[101].
Если есть связь со Христом, ты живешь каждую секунду своего бытия, каждая секунда входит в вечность (становится бытийно значимой). И наша задача сделать полноценным каждое мгновение. На каждое мгновение своего бытия человек реагирует как цельная личность, и такое делание не утомляет его, так как такая связь – естественна для человека. Естественным образом получается, что человек следит за каждым своим движением, но такое делание не утомляет его, будучи органически вплетено в общую структуру жизнедеятельности.
Так в частности, святитель Василий Великий писал, что, когда «движешь руку» на дело, «воспевай Бога, и между делом совершай молитву», благодаря Того, кто дал твоим рукам силу. И «таким образом достигнем собранности», прося у Него успеха в делании, воздавая благодарение за преподанную Им силу, стремясь сохранить целью благоугождение Ему[102].
Нечто подобное имел в виду и старец Ефрем Филофейский, размышляя о умной молитве (Иисусовой), которая приближает человека к Богу и соединяет человека с Ним. «Когда человек с Богом, – наставлял старец, – тогда он не сбивается с нравственного пути, потому что следит за каждым своим шагом»[103].
Одновременно необходимо отметить, что, по мысли святителя Феофана Затворника, «внимание одно не бывает в силе». Но тогда внимание сильно, когда реализуется вместе «с трезвением, бодренностию и непрестанною ко Господу молитвою. Сочетай все это, – наставляет он, – и будешь неуловим». Это размышление предлагается им в качестве ответа на ту ситуацию, при которой человек запутывается в цепи помышлений. Эта цепь – «точно хитросплетенная сеть!» Тот, кто пускается вслед мыслей без внимания, будет опутан ими, рискует упасть. Вот почему следует держать око ума «острозорким, посредством строгого внимания ко всему, что происходит в тебе и около тебя».
Святитель Феофан, живший еще до появления сетевых технологий и СМИ, реализуемых на цифровой платформе, имел в виду ту цепь помышлений, которой враг рода человеческого опутывал людей внутри голов. Теперь опутывающая цепь помышления с помощью сетевых технологий как бы выведена наружу, в пространство СМИ и социальных сетей. Соответственно, святоотеческие наставления, обучающие противостоянию манипуляции, транслируемой от врага рода человеческого, становятся актуальными и в контексте темы противодействия манипуляции, транслируемой извне людьми, желающими управлять нашим вниманием[104].
«…в уме отпечатываются образы вещей мира… тот, кто знаком с изложенными духовными авторами принципами духовного противостояния страстным отпечаткам, может противостоять и агрессивному воздействию медиа-образов. Тот, кто отрицает существование мира падших духов и факт их влияния на человека, тому затруднительно противостоять и производимой человеческими средствами манипуляции. Она хоть создается и человеческими средствами, но копирует в чем-то тактику демонов. Демоническая тактика формирования в человеке склонностей, желаний и влечений узнается в принципах ведения сетевой войны. “Основой ведения всех сетевых войн является проведение операций… направленных на формирование модели поведения”. <…> Людям “ничего не навязывается прямым образом, но при этом они делают то, что хотят сетевики, выстраивающие эту модель управления”»[105].
То есть само стремление сохранить связь со Христом рождает в человеке собранность. И ее действие, естественно связанное со всем строем жизнедеятельности человека, не утомляет человека, не делает его «упавшим навзничь». Эту мысль можно сопоставить с советом преподобного аввы Дорофея хранить свое устроение (состояние, при котором в идеале силы души находятся в равновесии и целокупность человека находится в условиях созидательной связи с Богом). Тот, кто хранит свое устроение, тот зорок, бодр, трезвенен. Сохранить свое устроение, по мысли преподобного аввы Дорофея, – это 3/8 искомого дела, а сделать дело – это 1/8. Например, внести скамейки для лекции в это помещение – это 1/8. И если скамеек не хватает, мы начнем ругаться и потеряем свое устроение, то мы теряем 3/8 всего дела. Если я поругаюсь, то не смогу провести лекцию, даже если всем есть, где сидеть. Но, сохранив внутреннее устроение, смогу провести ее в конструктивном ключе, даже если скамеек не хватает. Если помнишь о своем устроении (которое войдет с тобой в вечность), тогда каждая секунда становится осмысленной.
«Пусть ваша любовь друг к другу, – наставляет преподобный авва, – побеждает все случающееся». Какое бы ни было дело, не стоит делать его со спорами и смущением, так само дело, будучи исполнено, есть только «восьмая часть искомого; а сохранить свое устроение, если и случится от этого не исполнить дела, есть три восьмых с половиною». Потому, кто хочет совершенным образом исполнить дело, пусть не только исполнит его, но и сохранит свое устроение. «Если же для того, чтобы исполнить дело вашего служения, будет надобность увлечься, отступить от заповеди и повредить себе или другому, споря с ним, то не следует терять три восьмых с половиною для того, чтобы сохранить одну восьмую». Разрушающие свое устроение при реализации служения, исполняют свое служение неразумно[106].
Когда человек пытается не только исполнить дело, но и сохранить при том свое устроение, у него как бы сами собой формируются новые конструктивные навыки, в нем рождается как бы новый человек. В этом смысле можно привести в качестве комментария слова одного повара, который не только занимался своими профессиональными обязанностями, но и старался при том не потерять молитву, думал о том, как на богослужение в храм по возможности попасть. Вследствие реализации усилий, ненаправленных на сохранение устроения, он стал чувствовать, что внутри него стал рождаться как бы новый человек[107].
Глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать
То есть как бы слой за слоем рождались глаза, которые видят, и уши, которые слышат. Этот новый человек может ставить перед собой вопросы, которые недоступны были для понимания человека прежде. Прежде, оставаясь как бы «на своем этаже», человек пытался разобраться в жизни, но ни концов, ни выходов сыскать не мог. Развиваясь, человек становится способным по-иному взглянуть на окружающее его и происходящее в нем.
Дело здесь – не в избитой фразе «Посмотри на все иначе». Человек со сформировавшимся углом зрения, выработавший определенные жизненные навыки, просто не может посмотреть «на все иначе».
Сменить угол зрения получиться со временем, если человек озаботится необходимостью вырабатывать новые навыки. Совершая шаг за шагом, он со временем создает комплекс условий и предпосылок, вследствие чего меняется не только он сам, но и окружающая его реальность[108].
Вот, например, мужчина, считающий нормой хаотизированные интимные контакты. Ему трудно посмотреть на представительницу женского пола как на женщину, которая может стать не только супругой, но и той самой единственной, а также верным другом на всю жизнь. Если он за шагом будет бороться с позывами окунуться в поток хаотизированного интима «на стороне», то будет постепенно меняться его система навыков и представлений. И однажды, к своему великому счастью, он станет способным узреть «ту единственную». Без глубоких же внутренних изменений ему крайне затруднительно будет посмотреть на женщину иначе как «на кусок мяса», даже если все его друзья будут призывать его сменить «угол зрения» (да простят женщины эти слова, которые произносятся с сожалением, о слепоте некоторых мужчин, гоняющихся за сиюминутным и не знающих, что в своей супруге при условии направленных к ней любви и внимания, они могут найти верную спутницу во всех отношениях и на всю жизнь).
«Угол зрения» может быть изменен при условии изменении мировоззрения в целом. Речь в данном случае идет о том процессе, который назван духовными авторами «метанойей» – изменением ума. В этом смысле слова духовных авторов о «метанойе» (покаянии; при деятельном покаянии человек начинает видеть новые, альтернативные прежним пути выстраивания жизни) и о трезвении дивно начинают привлекать к себе взоры в контексте современных изысканий светских авторов, ищущих подходы к решению сложных кризисных ситуаций.
Так профессор Роберт Киган в соавторстве с Лайзой Лейхи пишут, что «мы можем обучаться и размышлять сколько угодно, но изменения, на которые надеемся и которых ожидают от нас другие, не произойдут. А все потому, что обучаться и размышлять мы будем, не меняя мировоззрения».
Ведя речь о профессиональной деятельности, о развитии компании и ее сотрудников, они отмечают: чтобы компания могла развиваться, а человек мог осуществить свою мечту, «нужно взрастить новые навыки».
Также они отмечают, что задача изменений часто неправильно понимается как необходимость «лучше справляться с возрастающей сложностью мира». Проблема неправильного понимания состоит в том, что люди расширяют свои реакции на внешние вызовы, но остаются при том такими же, как были прежде.
Перспективным же видится подход, когда люди ищут новую информацию не только в рамках своей рабочей системы, но стремятся скорректировать саму систему. Они готовы отдать предпочтение той информации, которая предупреждает их о ограниченности их системы координат. Когда сознание работает на этом уровне, возникает больше шансов, что люди обратят внимание на ту точку зрения, которая может быть далека от общепринятых взглядов на вопрос. И эта точка зрения поможет вывести проект «на более высокий уровень».
На этих путях люди обретают способность справиться с тем, что авторы называли адаптивными трудностями. Трудности такого рода можно сопоставить с тем, что обычно называют системным кризисом; системный кризис отличается от обычного тем, что неустраним прямым, линейным действием[109][110].
Авторы отмечают, что есть уровни проблем, решить которые можно только путем изменения мировоззрения, путем изменения способа восприятия мира и самих этих проблем. Проблемы такого уровня они назвали адаптационными.
Есть проблемы механические, которые можно решить линейными шагами. Но есть проблемы адаптационные, и чтобы их решить человек должен приобрести новые навыки, пересмотреть то, как он реагировал на мир.
Люди нередко воспринимают свою систему восприятия как данность, как познающего субъекта, как то, что изначально показывает вещи правильно и адекватно. Но к системе восприятия авторы призывают отнестись как к объекту, который можно и нужно исследовать. Следует задать себе вопросы: правильно ли поступаю, что смотрю на мир именно так? Верен ли метод познания действительности? Соответствует ли мое понимание проблемы тому, чем она является на самом деле? Чтобы решить проблему адаптационного характера, человек должен подняться над собой прежним и инертным.
Призвание земное и призвание в вечности
Когда человек поднимается над собой прежним и инертным (если соблюдены и прочие необходимые условия), можно сказать, что происходит процесс рождения нового человека. На тему рождения нового человека, способного решить проблему адаптационного характера, можно привести несколько мыслей из сочинения гениального хирурга Н. И. Пирогова «Вопросы жизни». Его идея, сформулированная своими словами, может звучать следующим образом: человек стремится привести к знаменателю две стихии: стремление исполнить свое земное предназначение и стремление к чему-то чистому, светлому, к тому, что находится за пределами земных наслаждений. Это есть цель здешней жизни, наше прямое назначение на земле. То есть нужно начать борьбу с двойственностью, но именно борьбу, а не вражду. Он пишет: «Борьба с этой двойственностью и с материальным вашим бытом, беспрестанное стремление привести ее к одному знаменателю – есть цель здешней жизни, наше прямое назначение на земле. Борьба, но не вражда. Не враждуя с вашей материей, не враждуя с окружающим вас, вы должны вступить в эту высокую, идеальную борьбу для недосягаемого на земле идеала. Откровение, поставив нам в образец первобытную, неразделенную дуализмом, природу человека: повелело, чрез борьбу с собою и миром, стремиться к уничтожению нашей двойственности».
О чем идет речь? О том, что сопоставить призвание в вечности и земные дела. Совесть тебе говорит одно, а общественное мнение иногда – другое. Например, окружающие говорят: напиши донос на начальника и получишь его место. Пойдешь ли на донос?
Или: человек работает в полиции, где потенциально может столкнуться со многим насилием. Но, работая, он старается все-таки градус насилия сбавлять, поступать адекватно ситуации, а не по собственным страстям. Старается не превращаться в зверя, и вследствие такого стремления в нем не формируется то, что называется ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство личности (некоторые сотрудники полиции из-за многих переживаний не могут спать; стремясь отключиться от тревожных воспоминаний, прибегают к алкоголю). Тот, кто не идет на поводу у страстей, не заражается их действием – его не колотит от ярости. Тот же, кто идет у ярости и гнева на поводу, совершая поступки в русле страстей, реализует то, что можно, по выражению одного священника, назвать антиметанойей (при антиметанойе человек настолько меняется, что уже теряет видение того, как ситуацию можно было бы решить иным путем, не прибегая к насилию).
У человека есть призвание в вечности. По выражению преподобного Иустина (Поповича), «в таинственной сущности своего существа человек носит богоданную цель своей жизни». То есть в глубине своего существа человек – это образ, который стремится к первообразу. Осуществление подобия – «это цель человеческой жизни, реализуя которую, человек во всем должен уподобиться Богу как своему Первообразу»[111].
Это задача может быть с нами 24 часа в сутки. Человек способен сохранить возможность к самоактуализации всегда. Но есть внешние условия, которые часто этому препятствуют. Нужно так организовывать свою деятельность, чтобы даже при этих неблагоприятных условиях оставить за собой способность восходить к задачам духовного плана.
Для кого-то покажется эта проблема богословской. На самом же деле она несет прямое практическое и даже биологическое значение. Человек, который эту задачу поставил, 24 часа в сутки развивается (в хорошем смысле слова). Например, чтобы сохранить связь со Христом, человеку нужно учиться бесконфликтности. Начальник должен и подчиненных мотивировать на выполнение работы, но при этом – и не ссориться, не приобретать себе врагов. Он вынужден научиться общаться с разными людьми (быстрыми и медленными, амбициозными, тщеславными и честолюбивыми). Буквально на ровном месте приобретается фантастическое число навыков, которые ни один тренинг дать не может.
Другой человек, перед которым не стоит задача по сохранению внутренней связи со Христом и внутреннего равновесия, рискует начать выбирать для себя прямой путь – надавить, поругаться, (с)манипулировать окружающими. То есть возникает риск того, что он будет не развиваться, а, наоборот, углубляться в собственных разрушительных тенденциях.
Евангельские принципы и менеджмент
Например, на стройке работает большое число коллективов. И здесь человек либо умеет договариваться с людьми, либо нет. Ошибочна точка зрения, постулирующая, что поможет само по себе образование и наличие одних профессиональных навыков. Так, один инженер рассказывал, что его просьбы и пожелания не были приняты руководством, и потому он принял решение уйти. На его место в проектном бюро (с масштабными стройками, большими суммами по контрактам и клиентами высокого уровня) взяли другого сотрудника. Но новый инженер вступил в конфликт с заказчиками. В итоге произошла потеря клиентов, компания понесла убытки, несопоставимые с теми тратами, которые понесла бы, если бы пошла на соглашение с условиями инженера.



