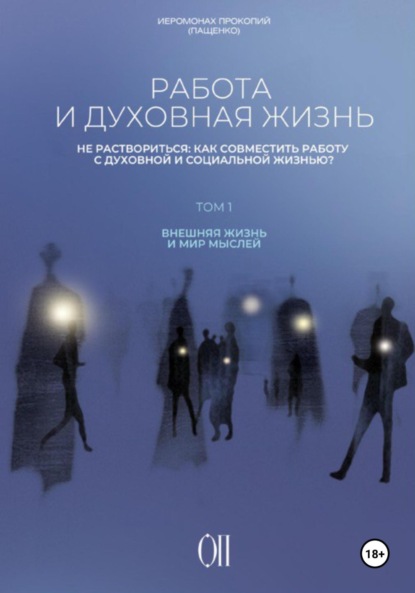
Полная версия:
Работа и духовная жизнь
Его подход состоял в том, что для клиентов он стремился составить проект, максимально для них необременительный в плане финансовых вложений и расходуемых строительных материалов. Парадоксальным образом такой подход обеспечивал приток финансовых средств в компанию, так как многие клиенты, утешенные работой с инженером, хотели иметь с компанией дело. С его уходом то один клиент, то другой стали отказываться иметь с компанией дело вследствие неудовольствия работой пришедшего на место инженера другого сотрудника. О компании стала идти молва, приток клиентов стал сокращаться.
Другой пример. На стройку пришел ставленник руководства, «белый воротничок», который начал пытаться решать вопросы с рабочими угрозами увольнения. Но при отсутствии простой человеческой способности договориться с «работягами» выполнить работу невозможно. Например, при строительстве крупного объекта у штукатуров заключен контракт на столько-то помещений. На них начинает давить ставленник руководства, которому нужно подготовить для демонстрации руководству несколько помещений.
Штукатурам не понравился заносчивый тон его речи, и они отказались слушать угрозы далее, они пошли заниматься своими делами. Объектов у них еще более сотни, они остаются в рамках своего контракта, ничего криминального в их действиях не усматривается, просто изменилась последовательность подготовки помещений. Так как в демонстрационных помещениях стены вовремя не были подготовлены, маляры, придя на объект, не смогли им заняться. Время было упущено. В итоге демонстрационный объект начальству в нужное время ставленником продемонстрирован не был, вследствие чего ставленнику пришлось столкнуться с претензиями со стороны руководства.
Как эти два примера, так и прочие изложенные выше идеи можно сопоставить с некоторыми рекомендациями, приводимыми в книге Ричарда Дафта «Менеджмент». Он пишет, что «одним из ключевых аспектов менеджмента является признание роли других людей и их значимости. Хорошие менеджеры знают: без участия сотрудников организации они не добьются ровным счетом ничего».
Человеческие навыки приобретают все большее значение в деятельности менеджеров, особенно тех, которые контактируют с простыми рабочими. «Хорошие сотрудники часто уходят из организаций по вине непосредственных начальников, не умеющих проявить уважение и участие».
Под человеческими навыками здесь подразумевается способность к работе с людьми, в том числе, и в качестве члена команды. «Обладающий развитыми человеческими навыками менеджер мотивирует подчиненных к самовыражению, стимулирует их вовлеченность в деятельность организации. Такой менеджер любит других людей и пользуется взаимностью».
Современному менеджеру не должно ограничивать свою деятельность сферой, связанной с одними лишь материальными потребностями. Автор упоминает об одной компании, поддерживающей открытые и доверительные этику и культуру. Внимание, с которым относятся к человеческим навыкам в компании, окупается сполна. «Высокая мотивация работников помогла компании расширить число лояльных клиентов, и это в условиях жесткой конкуренции» (упоминаемая компания в отличие от других Интернет-компаний приносит прибыль).
Менеджер, продвигаясь на верхние уровни иерархии в организации, должен больше уделять внимания развитию концептуальных навыков. В противном случае его может ожидать неудача в случае назначения на пост руководителя компанией. Если возведенный на эту должность старший менеджер думает только о технических проблемах и не задумывается о стратегии организации, он «вряд ли добьется успеха». Ведь «такие обязанности высших менеджеров, как принятие решений, распределение ресурсов и проведение изменений, требуют более широких взглядов».
(В качестве «дискуссионных» примеров (не из книги) можно привести следующие два. Один крупный медицинский центр, совмещавший слаженную работу различных специалистов со здоровой психологической атмосферой, нанял менеджеров для «повышения продуктивности». Менеджеры, не имеющие медицинского образования и понимания многоступенчатой, детальной продуманной системы реабилитации пациентов с болезнями сердца, стали вносить без согласования с врачами свои коррективы в процесс реабилитации (что-то – выбрасывать из процесса, длительность каких-то мероприятий – сокращать). В итоге процесс, эффективность которого обеспечивалась слаженной работой различных подразделений, стал рассыпаться на глазах. Специалисты, не видящие перспектив при таких условиях, начали увольняться. Если падает эффективность реабилитационного процесса, то станут ли хотя бы в прежнем количестве обращаться пациенты в этот медицинский центр?
Сеть магазинов одежды наняла менеджеров, положив им высокую зарплату и поставив им в качестве задачи повышение прибыли. Приезжая из иных городов, не понимая специфики места, менеджеры принимали решения, призванные, видимо, в краткосрочной перспективе поразить руководство взлетом прибыли. В итоге компания пожинала падение прибыли, о чем бухгалтеры и не знали даже как уведомить руководство, которое без охоты слушало отзывы рядовых работников. Менеджеры приходили и уходили, дела шли все хуже.)
В качестве перспективного примера Р. Дафт приводит менеджера одной бейсбольной команды, показавшей весьма высокие результаты. Хотя, по словам менеджера, успех команды зависит от сочетания многих факторов, «очевидно, что едва ли не самым главным является его подход к менеджменту». В основе его подхода «лежит знание индивидуальных черт каждого члена команды, а также справедливое, уважительное и доверительное отношение к людям. Последние три элемента он считает важнейшими составляющими продуктивных рабочих отношений».
Если нужно уладить какую-то проблему с игроком, менеджер улаживает ее наедине. «Он никогда не запугивает, не манипулирует и не оскорбляет членов команды, ибо такого рода действия не позволяют ни мотивировать членов команды, ни контролировать их». Он понимает, что у каждого игрока может случиться спад. Он не обременяет игроков многочисленными правилами, предпочитает относиться к ним как к взрослым людям, которые отвечают за свои поступки и работают над достижением общей цели. «Такое внимание к людям и отношения с ними и между ними позволило создать рабочую среду, в которой принято прощать ошибки и неудачи. В условиях нестабильности такая среда необходима большинству организаций». По мнению менеджера команды, создать такую среду можно, исповедуя ценности «уважения, доверия, честности, преданности общему делу и людям, с которыми вы его делаете»[112].
Виктор Франкл о работе. Не только функционал, но и личное
На тему того, что жизнь работника, по идее, не должна ограничиваться лишь воспитанием рабочих навыков (не только призвание земное реализуется, но и призвание в вечности) в книге В. Франкла «Доктор и душа»[113] есть 3 главы, очень подходящие к нашей теме.
Глава «О смысле работы»
Он говорил: «Ни в коем случае нельзя утверждать, что лишь определенные профессии дают человеку возможность осуществиться. Никакая профессия сама по себе в этом смысле не станет благословением». Некоторые люди утверждают, что, если бы у них была та или иная профессия, они смогли бы себя реализовать. Но надо понимать, что виноват в случае неспособности реализоваться сам человек, а не его работа. Профессия не делает человека незаменимым. Она лишь предоставляет ему шанс. «Все зависит не от профессии, а от того, как человек к ней относится. Все зависит не от той или иной профессии, но от нас: раскрывается ли в работе то личное и особенное, что составляет уникальность нашего существования, и придает ли тем самым жизни смысл – или же этого не происходит».
Автор приводит конкретный пример: «Медицинская профессия постоянно предоставляет врачу возможности реализовать в работе свою личность». Применительно к нашей беседе можно сказать, что медицинский работник реализует свою личность и свое призвание в вечности, поправляя подушку пациенту, говоря ему ласковое слово. Тогда врач или медицинская сестра живут как личности, постоянно развивают свои навыки.
(Сейчас же при всех гуманистических лозунгах наблюдается следующая тенденция: врачи и медсестры устают от общения и просто молча реагируют на пациента. В частности, вот история, рассказанная одним человеком, попавшим в больницу с инфарктом. Его, поступившего по скорой помощи и прошедшего необходимые диагностические процедуры, готовят к операции. Разрезают на нем одежду, ему страшно, он в панике пытается что-то выяснить, а при этом врачи просто молчат, механически отрабатывая свой функционал.)
Напомню, если человек ограничивается только выполнением функциональных обязанностей, то попадает в кольцо апатии и перестает развиваться как личность. В этом смысле на тему, в данном случае – врачей, проецируется опыт узников концентрационных лагерей. Узники, чтобы не переживать запредельный стресс, добровольно выбирали некое эмоционально омертвение. Если человек начинает омертвевать, то не сможет вчувствоваться в обстановку. Не сможет в нестандартной ситуации подобрать верное решение. Угасает его способность реагировать на происходящее, человек теряет иммунитет перед внешней агрессивной информацией, перепрошивается ею. Если блокируется его разумная деятельностью, которую с некоторой долей осторожности можно сопоставить с второй сигнальной деятельностью, то открывается возможность для формирования в нем условного рефлекса[114].
Применительно к врачам, медицинским работникам и представителям «социальных профессий» – об угасании, открытости для формирования условного рефлекса и, обратно, о жизни в полном смысле этого слова, см. первые две беседы из цикла «Врачи, мед. работник, люди социальных профессий». А также беседу «Актуальность милосердия: О социальном служении, врачах, выгорании, поиске пути, любви».
Нарастает внутренний конфликт. Ты приходишь домой опустошенным. Если ты бесчеловечно относился к пациентам, то где гарантия, что ты сможешь по-человечески отнестись к собственным детям? В отношении детей ты будешь реализовывать ту же самую программу, как и в отношении пациентов. Мозг у тебя один, и сердце у тебя одно.
Соответственно, когда медсестра делает что-то больше своих регламентированных обязанностей, например, скажет доброе слово больному, тут же появится шанс найти смысл в работе, работа станет осмысленной. Перестанет быть мертвой реализацией функционала, начнет приносит радость и удовлетворение.
Очень хорошо эта идея описана в книге «Отец Арсений» в главе «Доброе слово». Глава посвящена медсестре Любочке, ее общению с пациентами. Она на работе именно жила, жила как личность, а не просто выполняла свой функционал. Таким образом, если человек искажается трудовыми отношениями, то складывается трагическая ситуация: жизнь человека начинается только в свободное от работы время. И смысл жизни зависит от того, какую форму человек придаст своему досугу. Какой досуг у человека, который бесчеловечно вел себя на работе? Замертво упасть на кровать.
К такому человеку применимы слова Виктора Франкла: «У такого человека много денег, и эти деньги становятся целью, а жизнь лишается цели». Можно дополнить мысли Виктора Франкла идеями профессора Ц. П. Короленко и академика Н. В. Дмитриевой. Авторы описывают людей, страдающих работоголизмом. Есть даже семьи работоголиков. Муж и жена в состоянии истощения приходят домой и смотрят телевизор. У них нет сил на общение. Они даже не знают, о чем говорить. Просто смотрят телевизор пока не заснут, а утром снова идут на работу.
«Все чаще встречаются работогольные семьи, когда молодые мужчины-работоголики женятся на молодых женщинах-работоголиках. Муж и жена имеют перспективную работу, на которой проводят весь день, а вечерами занимаются в различных кружках или в состоянии истощения смотрят телевизионные программы. Они становятся все более эгоцентричными, поглощенными собой, некоммуникативными. Такие семьи часто распадаются, а в последующих браках ситуация повторяется с подобным же исходом»[115].
Глава «Невроз безработицы»
Человек, полностью зацикленный на внешнем функционале, при потере работы лишается и смысла жизни. «Он чувствует себя бесполезным, потому что ничем не занят». Выше уже приводился пример одной крупной международной компании, которая в период массовых сокращений вызывала несколько бригад скорой медицинской помощи к офису. Люди, проработавшие в этой компании 20–30 лет, после увольнения просто выбрасывались из окошка. Все это происходило в благоустроенной стране, стране победившего прагматизма, где о духовной жизни говорить не принято. Человек видит свою реализацию только в рабочем процессе – и вдруг ее не становится. Начинается апатия, ощущение внутренней незаполненности.
«Безработица – желанный предлог, позволяющий снять с себя вину за любые промахи в жизни (не только профессиональные)». Человек ответственность за свою «упущенную» жизнь возлагает на отсутствие работы. «Конечно, не будь я безработным, все было бы по-другому, все было бы хорошо и прекрасно. Такому человеку кажется, что никто не вправе ничего от него требовать, ведь сам он ничего от себя не ждет. Безработица избавляет от ответственности, как перед другими, так и перед самим собой, от ответственности перед жизнью. Любой провал в любой области жизни списывается на безработицу». Он ждет воображаемого момента, когда каким-то образом изменится этот фактор, а с ним исправится все остальное. То есть будь у меня работа, все пошло бы как надо. Примечательно, что невроз безработицы не является чем-то фатальным. Человек не обязан впадать в невроз. Есть люди, которые остаются свободными от невроза, не обнаруживают ни апатии, ни уныния и сохраняют даже определенную бодрость. Почему? Потому что осталось личное начало.
«Они становятся волонтерами каких-либо организаций, бесплатно выполняют обязанности администратора на учебных курсах или помогают в молодежных объединениях, они слушают лекции и хорошую музыку, много читают и обсуждают прочитанное с друзьям». Кто-то работает волонтером за обед. [Самое главное – твоя личность живет]. «Большую часть свободного времени они проводят осмысленно и с пользой, наполняя содержанием свое время, свое сознание, свою жизнь. У них нередко урчит в животе, как и у представителей другого, невротического типа безработных, но они говорят жизни «Да!» и очень далеки от отчаяния. Они научились наделять свою жизнь содержанием и смыслом, они осознали, что смысл человеческой жизни не исчерпывается профессиональным трудом, что безработный отнюдь не обречен на бессмысленное существование. Для них смысл жизни уже не сводится к официальной должности. Главный источник невроза безработицы, основная причина апатии – ошибочное представление, будто лишь профессиональный труд придает жизни смысл. Это неверное отождествление профессии с жизненной задачей, их полное приравнивание ведет к тому, что безработный ощущает себя лишним и никому не нужным».
Главная трагедия нашего времени – объединение в психологической литературе понятия «индивидуальное» с понятием «личное» (тренинги так называемого личностного роста; так называемое личное развитие и т. д.). Как правило, под этим подразумевают механизмы, позволяющие быть более эффективным. Но гонка за эффективностью сравнима со следующим примером: от того, что принтер стал печатать 70 страниц вместо 50, он не стал личностью. Происходит подмена личности на понятие «индивидуального». Человек вырабатывает в себе навыки индивида, которые позволяют ему вписываться в ту или иную экономическую модель. Но при этом личностью он не становится.
В современных компаниях, чтобы мотивировать рабочий процесс, людям дают идею миссии. Часто даже этот момент выглядит несколько абсурдно. Одна работница банка рассказывала, что до определенного времени они просто переводили платежи, а потом у них появилась «миссия» – переводить те же платежи.
О ПРИЗВАНИИОтветы:
– «Призвание (см. также ответы Выбор жизн. пути (семинаристу); Опустошение и самоубийство)»[116].
– «Ощущает призвание, миссию, себя – Мессией, Богом. Как отделить здоровое от нездор.»[117].
– См. также несколько частей эфиров про призвание[118].
В эфирах использовались материалы:
– Главы «Познать свое призвание и следовать ему», «О значении деятельности в постижении духовных понятий» из первой части статьи «Преодолеть отчуждение (в том числе – и о депрессии)»[119].
– Глава «Непреображенная природа и учение святого священномученика Илариона (Троицкого)» из статьи «Тирания мысли и алкоголь: О выходе из состояния “тирании мысли” и преодолении того, что толкает человека к алкоголю»[120].
– Некоторые мысли из цикла бесед «Познать свое призвание и следовать ему»[121].
Кстати, миссия – один из штрихов (пунктиков) шизофрении. В момент шизофренического озарения в человека входит некое иное видение мира, он приобретает представление о собственной миссии в этом мире. Но эта миссия патологическая. Человек воспринимает весь мир как сосредоточение борьбы со злом. А сам человек – эпицентр борьбы. Появляется шизофренический драйв[122]. Попытка стимуляции рабочего процесса идеей миссии может обернуться в микродозе идеей шизофренического толка.
Призвание – совсем другое понятие. Образ призван стать первообразом. Мы – образ Божий, призваны стать подобием. И путь наш – попытка реализовать себя, развить творческие способности. Люди, которые не предают работе исключительный смысл, способны сохранить личное. Они даже при потере работы могут быстро адаптироваться к новым условиям и найти новую работу. Они не выбиты из колеи апатией. Те люди, которые только в работе полагали смысл, при ее потере лишаются смысла. Условно говоря, на новые собеседования они приходят с потухшими глазами и производят неблагоприятное впечатление. Как противоположность – жизнерадостность людей, сохранивших иной взгляд на реальность.
«Иногда отмечается даже обратная последовательность, когда человек теряет работу из-за невроза. Ведь понятно, что невроз оказывает воздействие на социальную судьбу и экономическое положение человека. При прочих равных безработный, сохранивший внутренние силы, имеет больше шансов в конкурентной борьбе, чем впавший в апатию, и скорее получит место». Автор приводит высказывания некоторых молодых безработных: «Нам нужны не деньги, а смысл жизни». Человек при такой позиции сможет даже нелегкой жизни придать содержание и смысл. «Достоинство человека запрещает ему превращаться в средство, деградировать до средства производства, до инструмента трудового процесса. Работоспособность – не абсолют, она не служит ни достаточным, ни даже необходимым условием для того, чтобы наполнить жизнь смыслом». Он приводит выражение из одного медицинского романа: «Где нет любви, работа превращается в суррогат, а где нет работы, любовь превращается в опиум».
Глава «Воскресный невроз»
Закончив предыдущую главу на теме опиума, Виктор Франкл продолжает идею. «В таком “опиуме” нуждается человек, который ощущает себя всего лишь “работником”, и ничем сверх того». Смысл воскресного невроза – в выходной стихает темп рабочей недели и обнажается нищета смысла, которая присуща большому городу. У человека складывается впечатление отсутствия цели. Например, сотрудница большой юридической компании утверждает, что многие приходят в выходные дни на работу не потому, что есть незавершенные дела, а потому, что не знают, чем заняться дома.
О подобном писал и Блез Паскаль, и другие авторы. Блез Паскаль писал, что люди уходят на покой и лишаются активности, которая мешала им предаваться мрачным мыслям о своей жизни. В особняках на заслуженном покое они испытывают некую тяжесть. Каким образом их можно исцелить[123]?
Чего только человек не предпринимает, чтобы спастись от бессмысленности. «Стоит производственному темпу прерваться на 24 часа, и вся бессмысленность, бессодержательность, бесцельность существования встает перед его глазами». Человек «бежит в местный клуб танцев – там громкая музыка, что избавляет от необходимости даже разговаривать, как в бальных залах былых эпох. Не приходится и думать: все внимание сосредоточено на танце. Или воскресный невроз загонит его в другое “прибежище” для провождения выходных – в спорт. Там можно прикинуться, будто важнейший в мире вопрос – какой клуб выиграет матч. Две команды играют, тысячи смотрят. В боксерском поединке и вовсе участвуют лишь двое, но тем яростнее они сражаются. Нет, я вовсе не хочу осудить здоровые спортивные занятия. Но всегда надо критически присмотреться к тому, какую позицию человек занимает по отношению к спорту».
Автор утверждает, что «невротически искаженное “искусство” разлучает человека с самим собой». Дополню: есть искусство, обучающее человека прислушиваться к себе (см., например, статью Ивана Ильина «О новом искусстве», если полнее – его сборник «Путь к очевидности). Но есть искусство, которое «используется лишь как возможность опьянить себя и оглушить». Когда человек пытается бежать от самого себя, он хватается за самый закрученный детектив, он ищет разрядки. «Не для того мы ведем всю жизнь борьбу, чтобы получать все новые впечатления, – эта борьба должна быть на что-то нацелена, и в этом она обретает смысл».
Если у человека есть стремление к цели – это правильная мысль, вложенная в нас Богом. Но если нет верных представлений о жизни, если мы не встраиваем свою жизнь в контекст картины мира, то сила, данная нам для достижения благих целей, обращается на что-то другое[124].
«Жажда впечатлений требует в очередной раз пощекотать нервы, взбудораженные нервы вновь и с большей силой ощущают все ту же тягу, приходится увеличить дозу». Клерки, менеджеры, работники банков. Менеджеры среднего звена легче всего вовлекаются в игровые процессы. За обилием цифр следует эмоциональное отупение (эксперты выделяют несколько наиболее подверженных риску вовлечения в интернет-зависимость групп; «основная – это уставшие от ежедневной рутинной работы и скучающие по новым впечатлениям менеджеры среднего звена»[125]).
Чтобы его снять, кто-то выбирает, например, экстремальный спорт. В сериале «Волк с Уолл-стрит» показан переход от отупения в искаженную сексуальность.
В других беседах были приведены слова женщины-начальника, которая во время беседы постоянно шепотом повторяла слова собеседника. Выяснилось, что ее мозг словно покрыт словно коркой асфальта, от которой отскакивают все новые идеи. Началось это в тот момент, когда люди стали для нее цифрами. Человек перестал существовать, остались только кадровые решение (повышение, увольнение и т. д.). Перестали обновляться нейронные сети, человек попал в программированный коридор.
Примеры сохранения личного в контексте работы, лагерных условий, внешнего давления[126]
Если подытожить сказанное, тупик преодолевается, когда человек вкладывается в навыки, в формирование внутреннего ядра. Появляется возможность преодолеть ситуацию, которая раньше казалась непреодолимой.
Можно провести аналогию с борьбой. Что делать, если наступает мощный борец и придавил тебя? Опытный борец скажет, что можно его качнуть и сбросить. Но для этого нужно постоянно тренироваться. Если бы мы жили воистину по-христиански, то сформировались бы христианские навыки. Именно они позволят невыносимую ситуацию «качнуть» и перевести в иную плоскость. На эту тему опубликованы беседы 14, 15, 16 и 17 из части 4 – сравнение офиса с лагерем и взгляды на преодоление трудных ситуаций.
Еще один образ – человек, работающий в крупной компании, где в организации бесчеловечное отношение к собственным сотрудникам. Основной тренд: клиент должен выглядеть лучше работника компании. Продумана форма одежды для сотрудников, работающих с клиентами: рубашка с короткими рукавами (тогда как у клиента с длинными), небритость. У клиента возникает чувство превосходства, а сотрудники чувствуют себя униженными. Беседы с клиентами происходят по сформированным каналам связи, и эти разговоры анализируются группой менеджеров.
Кстати, здесь можно упомянуть об одной статье про внедрение в рабочий процесс искусственного интеллекта. Программа вмешивается в работу кол-центра и подсказывает сотрудникам о необходимости проявить эмпатию (масштабирование эмпатии). Но это приводит к обратному эффекту: у людей все меньше желания обращаться в кол-центр. Если раньше человек при обращении надеялся хоть на какое-то понимание, [и даже молчание собеседника было признаком сопереживания], то искусственный интеллект подсказывает шаблонные фразы. Человек слышит эти штампы и понимает, что на другом конце провода с ним строят диалог по шаблону, [что ему не помогут][127].



