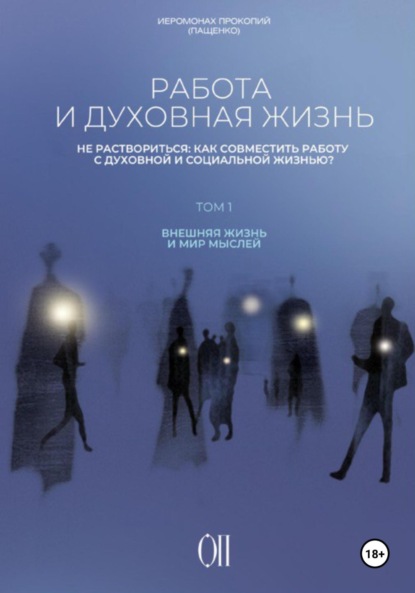
Полная версия:
Работа и духовная жизнь
Кладезь советов на эту тему – книга «Отец Арсений». Это повествование людей, живших в годы репрессий. В невыносимых условиях они старались найти личное ядро и за него боролись. Что помогало им не только сохранить способность понимания ситуации, но и выжить.
Годами в нас формируется линза, сквозь которую человек воспринимает мир. Кто-то считает, что возмездие – это то, что нисходит с Небес. Но возмездие начинается здесь, в том числе в том, как мы видим мир.
Эта мысль вытекает из учения академика Ухтомского. Как человек живет – так он и воспринимает этот мир. Мир может ощущаться как бессмысленный или как наполненный перспективами. Понятно, что в окружающей нас жизни есть недостатки, проблемы, но нам важно идти своим путем. Если человек этот путь найдет, если будет мир в душе, то многие вопросы будут сняты. Потому что человек начнет видеть ситуацию не с бесперспективных углов, а с конструктивных. Когда человек смотрит на мир в состоянии уныния и подавленности, все представляется ему сквозь тусклое стекло. Если мы не читаем правило, не продвигаемся в духовном отношении, то мир начинает восприниматься мрачным. Человек не может к нему адаптироваться, не способен принять решение. В зависимости от того, как человек живет, какие навыки воспитывает, он или способен или не способен понять многие вопросы. Более подробно это разобрано в цикле «Разноголосица мыслей».
Применительно к нашей теме можно говорить о том, что ошибка человека – это ограничение себя работой. Если развивать в себе христианские навыки и вне работы, то и на труд можно посмотреть с иного угла, установить контакт с коллегами. И там, где перед человеком была закрыта дверь, личный контакт поможет эту преграду преодолеть.
Фрагмент бесед 16–17 из цикла «Разноголосица мыслей»:
«…Когда человеку непонятен ни он сам, ни окружающий мир – ошибочным путем будет напряженная попытка прийти к пониманию, исходя из той точки, в которой он находится.
Современное гуманистическое направление воспринимает человека как некое самодостаточное существо, которое изначально обладает всей необходимой полнотой для того, чтобы радоваться и постигать жизнь. С точки зрения христианской антропологии, человек находится в состоянии падшем. Его ум, сердце и тело расколоты: ум видит благо в одном, сердце желает другого, а у тела вообще своя отдельная жизнь. Чтобы человеку что-то понять и вырулить на конструктивные рельсы, необходимо изменить самого себя и, возможно, даже на уровне физиологии.
То, как мы видим мир, как мы его воспринимаем, это результат нашей предыдущей жизни, тех откликов, которые мы внесли в себя. Где-то современная психология права – и причина из детства. Но она почему-то забывает, что помимо детского периода у нас есть еще ежедневная сознательная жизнь, в которой мы думаем, вносим в себя какие-то отклики, даже не подозревая, что эти отклики впоследствии начнут нами управлять. Формируется та линза, сквозь призму которой мы будем смотреть на мир. Многие люди ошибочно воспринимают эту линзу как данность (“Что поделать? – я такой!”), но это убеждение исходит из того, что человек не понимает, что его ежедневные усилия, страсти, ошибки сформировали тот способ видения мира, который у него сейчас доминирует.
Уровень сложности процессов, которые протекают внутри нас, в которые мы включены в социальной жизни, а также сложность мира как такового заставляют нас волей-неволей куда-то двигаться. Кто-то может этот процесс пресечь – наркотиками, тренингами личностного роста или еще каким-то образом ввести себя в состояние эйфории и отключения сознания, и тогда процесс развития прекращается.
Все мы однажды проходили через состояние: когда гневаешься на человека, тебя разрушает ярость и ее трудно преодолеть, пока с этим человеком не помиришься. Необходимость уравновесить свои аномальные мысли приводит к тому, что ты начинаешь совершать какие-то действия в реальной жизни. И вследствие того, что внешняя жизнь начинает гармонизироваться, этот процесс отображается и внутри.
Человек, который начал преодолевать собственную неустроенность, приходит к мудрости, к пониманию, что мир существует не просто так, начинает видеть следы промысла Божьего в мире, поднимается до понимания собственного призвания…»
Отдельно хотелось упомянуть идеи Николая Блохина (из его работы «Из колодца памяти») – верующего человека, репрессированного, осужденного за издательскую деятельность, печать религиозной литературы. Он у многих вызывал уважение. У рецидивистов личные дела были на одну страничку, а у Блохина – целые тома. С ним произошла масса чудесных и интересных событий. В этой беседе приведу один пример. Он всегда старался помочь людям, все делать «честь по чести». В главе «Когда по настоящему страшно» описывается критический момент, когда его ведут в пресс-хату. Человека, который не идет на поводу у администрации, помещают в камеру уголовников. Его могут насиловать, пытать, издеваться и делать все, что угодно. За это уголовникам даже обещаны блага и привилегии. Блохин понял, что это – конец. Его ведут по коридору, и он кричит, что он – Николай Блохин, по кличке «Поп», что его ведут в пресс-хату. И вдруг вся зона начинает стучать ложками, скандируя, чтобы освободили Попа. Его завели в камеру, и Блохин набрался смелости и заявил, что им дальше тюрьмы не уйти и их все равно найдут. Уголовники растерялись. Он вызвал охранников по звонку, и его вывели. Но эта ситуация стала возможна потому, что ей предшествовал длинный путь как христианина и как человека, способного на личный контакт.
Он также описывает общение мужского и женского отделений, расположенных в одном бараке на разных этажах. К веревочке прикреплялась записка с пошлостями. Сейчас сексуальная переписка проходит в чатах, а тогда осуществлялась именно в таком виде. Получив подобное послание, Блохин возмутился и ответил от души. Его послушались, переписка прекратилась под его чутким руководством. Одна из женщин жаловалась на отсутствие нормальных отношений в жизни, говорила, что у нее только однодневные ухажеры. Он ответил ей, что она сама такой путь выбрала, потому пусть не удивляется последствиям. К Блохину обратились с просьбой составить молитву, и он написал молитву Святому, чье имя было указано в просьбе (часто имя заключенного). Подобные просьбы посыпались со всех сторон. Трое суток без перерыва на сон и еду он писал заключенным молитвы. Это были самые счастливые дни жизни, по воспоминаниям Блохина. Когда его вызвал оперуполномоченный в кабинет и стал обличать в пропаганде, то сам тоже обратился с просьбой составить молитву. То есть у людей сложилось впечатление о Блохине как о человеке, за которого можно заступиться. В безвыходной ситуации именно люди его и спасали (см. приложение 3).
Приложение
1. Из книги Роберта Киган, Лайзы Лейхи «Неприятие перемен» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017)
«Если мы не научимся понимать суть развития человека: что это, что ему способствует, а что мешает, – то будем не развивать лидерские навыки, а всего лишь тренировать некоторые из них. Полученные на тренингах руководителей знания будут больше похожи на новые файлы и программы, работающие на базе существующей операционной системы. Они по-своему полезны, поскольку дают больше глубины и разнообразия в постижении действительности, но их использование ограничено операционной системой. Наш опыт показывает, что культура профессионального развития в большинстве организаций (частных и государственных) построена на совершенно иной логике, хотя многие руководители этого не осознают. Слова “рост” и “развитие” у всех на устах, но на деле обучение превращается в передачу знаний от эксперта ученику (а модель, учитывающая процессы трансформации сознания, игнорируется). Ожидается, что ученик “добавит” знаний себе в голову, а не перестроит сознание, чтобы оно стало более комплексным. Они хотят добавить больше файлов и программ в операционную систему, вместо того чтобы значительно усовершенствовать ее саму.
Руководители стараются включать больше трансформационных моделей, но в итоге проводят периодические тренинги, обучение, организуют корпоративные университеты, эпизодические семинары “профессионального развития”. Все это ненамеренно копирует форму и функции школьного образования, хотя взрослый человек не “готовится к пути”, а давно на него встал.
Мы не считаем, что существующие формы профессионального развития исчезнут. Это подходящий способ передать информацию сотрудникам, чтобы они могли формировать новые навыки и решать технические задачи. Исчезнет наша вера в них как в единственный способ удовлетворить все потребности в обучении.
Какие неявные допущения в отношении “устройства сознания” несут в себе системы обеспечения корпоративного обучения в организации? Рассматривают ли они сознание как систему, чей репертуар можно расширить и дополнить, или как систему, которую саму по себе можно преобразить?»
2. Из книги Юрия Владимировича Владимирова «Как я был в немецком плену»
«Прошли еще более километра. Я уже еле-еле передвигал ногами и вот-вот мог упасть и больше не встать либо из-за своего бессилия, либо от пули конвоира. Сильно исхудавший, босой и напоминавший своим видом подростка, я обратил на себя внимание какой-то доброй женщины, которая, не испугавшись быть застреленной конвоирами, быстро и решительно подбежала именно ко мне и передала узелок из белой ткани. В узелке оказались поллитровая бутылка с сырым молоком, кусок хлеба и две большие сваренные картофелины. Обе картофелины и хлеб я отдал своим соседям, а сам, освободив горлышко бутылки от пробки, жадно и быстро выпил все молоко.
Метров через 150 другая женщина опять сумела отдать мне бутылку с молоком и кусочек хлеба со свиным салом. И снова я выпил только молоко, а еду отдал тем же соседям. После этого они, видимо, решили, что им выгодно быть рядом со мною и поддерживать меня на дальнейшем пути. Они, каждый со своей стороны, крепко взяли меня под руки и почти понесли. Так мы двигались вместе по шоссе до железнодорожного узла – станции Лозовая».
«На улице меня заметила знакомая пожилая немка, которая шла с мужем – бывшим охранником лагеря в Цшорнау, имевшим прозвище Интеллигент. Она удивилась, увидев меня под стражей, и спросила: “Юрий, куда вас ведут?” Я, не раздумывая, ответил ей: “Видимо, на расстрел“”. Тогда ее муж быстро подошел к старшему конвоиру, поприветствовал его по-военному, правда, без слов “Хайль Гитлер”, и отвел в сторону, причем в их разговоре активно участвовала и жена.
Прошло несколько минут, и супружеская пара, пожелав всем счастья, ушла своей дорогой. А навстречу нам продолжала двигаться колонна гражданских лиц. Наш конвоир о чем-то переговорил с охранником этой колонны, потом подозвал меня к себе и сказал по-немецки примерно следующее: “Не думайте о об эсэсовцах только плохое. Как можно быстрее присоединяйтесь к колонне, переодевайтесь в гражданскую одежду, если она найдется у ваших соотечественников”. Так мы освободились от военного плена и превратились в гражданских пленных.
В колонне нам быстро достали нужную одежду: рабочие куртки, брюки, кепки, а для Саши Гуляченко выделили отдельную тележку, в которую мы сложили шинели. Поверх вещей на тележку посадили раненного Сашу».
3. Из произведения Николая Блохина «Из колодца памяти»
«Было не только страшное, но и светлое. Я сижу на пресненской пересылке. В камере около восьмидесяти человек: уголовники, большей частью осужденные за хулиганство, за кражи, за разбой. В моей камере не было ни одного осужденного за убийство. Наверху – женская камера. Двадцать женщин сидели за убийство. Были и кондовые воровки. И обе камеры занимались тем, что называется “коня гонять” или “тискать роман”. Конь – это кисет на веревочке, женщины нам его спускают через оконную решетку, а мы принимаем специальным! крюком. Курево так гоняли друг другу. А “тискать роман” это вот что: мои мужики начинают “роман писать”, естественно, на грязную половую тему. Страничка заканчивается многоточием, мол, продолжайте вы. Кисет передается наверх, и следует продолжение. И так в течение всей ночи. Мужчины пакость “гоняли” ту еще. Но то, что приходило от женщин… более изощренной мерзопакости я в жизни не читал! И тогда я понял, что такое сосуд немощи. То есть полный беспредел. Если баба становится алкоголичкой – это уже насмерть. Если она становится паханшей, то никакой атаман Кудеяр ей в подметки не сгодится. Дальше пяти строк я читать не мог. Просто тошнит.
А еще переговоры так проходили: кружку прижимаешь к трубе и кричишь – слышно как по сотовому телефону. В женскую камеру передают: “А у нас Поп сидит” – “А молитвы знает?” Тут я уже взял “трубку”: “Знаю”. – “Слушай, меня сейчас на этап. Людмила зовут. Ты мне напиши молитву”. – “Сейчас напишу”. Молитву святой Людмиле я не знал, но по общему образцу написал. Что-то вроде: “Избавь меня от всех скорбей, направь на путь истинный”. Передали. Там – тишина. И вдруг понеслось: “Давай и мне, и мне, и мне”. Я говорю: “Хорошо, только ‘роман тискать’ хватит”. Сочинял молитвы с ходу на целый лист… “А Евангелие вам не нужно?” – спросил. Как они заорали: “Давай!” Я для них три написал. Это продолжалось трое суток. Я не спал и не ел эти трое суток, и это были самые счастливые дни в моей жизни.
Потом приходят просьбы, вернее, требования учить, как жить. Одна пишет: “У меня любимого нет, есть одни е…”. Отвечаю: “Лапонька моя, да ты же сама этого хотела. Всю жизнь свою ты сама только их и искала. Любовь свою ты не искала”.
Потом говорю:
– Девки, шмон будет обязательно на эту тему. Сейчас себя понудьте: запомните молитву своей святой.
И они это делали. “Роман” уже больше не “тискали”.
Через трое суток меня вызывает “кум”. “Кум” – это оперативный работник, который должен следить за тем, что творится в камере. Сидит мальчик 22-х лет и говорит мне такие слова: “Ты что мне камеру развращаешь?” Тут я взорвался: “Порнуху гонять – это нормально, а когда девки молитвы потребовали – это разврат?!” Так вот: через десять минут он полушепотом: “А молитву Сергею знаешь?” – “Молитву Сергию Преподобному знаю. Сейчас сделаем”. Я ему на два листа сочинил молитву. Потом в Лавру ходил, спрашивал: “Батюшка можно было так делать?” Батюшки смеялись, отвечали: “Можно”».
«В саратовской тюрьме под названием “Третьяк” я попал в камеру, где сидел академик Вавилов в 1943 году. Была раскрутка по моему второму делу на второй срок – “антисоветская и церковная пропаганда”.
Сижу в камере, открывается дверь: “Тебя в 206-ю”. Вся тюрьма знала, что 206 камера – это “пресс-хата”. Я должен сказать то, чего говорить не должен. Следователь до этого мне внушал: “Ты говорил о Боге, вел среди заключенных антисоветскую пропаганду. Восемь человек тебя сдали”. Восемь-то сдали, а сто восемь – нет! Вот об этих ста восьми и должна была бы идти речь. Чтобы я их сдал.
А тюрьма “Третьяк” – уникальная. Лестницы железные – ступеньки звенят, как три рояля. А до этого я половине тюремных обитателей написал кассационные жалобы, потому как вроде бы самый грамотный. Некоторых по этим жалобам даже освободили. Евангелие мое по камерам гуляло. Так что меня знала вся тюрьма. И вот ступаю на лестницу, ору на всю тюрьму: “Братва, я Поп (моя кликуха), меня в 206-ю на прессы”. И вся тюрьма начинает железками своими, из чего едим, громыхать: “Попа назад, Попа назад!” И такой шум стоит! Подходим к 206-й, меня впихивают, закрывают. Стоят четыре “особняка” – это заключенные особого режима, они давно на службе у ментов. “О, ‘девочку’ привели!” Шансов нет. Перекрещиваюсь: “Пресвятая Богородица, помогай! Царь Никола, помогай”. И говорю: “Ребята, живым не дамся и одного с собой точно унесу”. Но ситуация все равно безнадежная. То, что они хотели со мной сделать, они бы сделали. А дальше уже застучалось бы по всей тюрьме: “Блохин – ‘пидер’”. Мое место – однозначно до окончания срока возле параши, даже если я и не виноват. Таковы законы камеры. Но стоит грохот, не прекращается! Говорю: “Слышите? Дальше тюрьмы не уйдете. Вас найдут. Никуда не денетесь”. У них екнуло на одну секунду, а это мгновение надо ловить! И я обнаглел. Сказал: “Ребята, вы отсюда уйдете”. Тут же нажимаю “клопа” – кнопку звонка. Ее можно сколько угодно ночью нажимать – никто не подойдет. А тут сразу же – “вертухай”. И я ему говорю: “Они выломиться (уйти) хотят”.
Дорогие братья и сестры! Я никогда не видел такой ошеломленности. Он говорит им: “Пошли!” И они выходят! Я падаю на шконку. Два часа ничего не помню. “Вертухай” меня толкает: “Выходим”. Выходим, и я ору на всю тюрьму: “Я их выломил”. Когда вернулся к себе в “хату”, было чувство: “Мне теперь ничего не страшно”»[133].
Часть 4.1. Главная проблема конкретного человека [например: срыв, психоз] и обретение равновесия, внутреннего мира[134]
Преамбула
Данный текст является расшифровкой части 4.1 цикла бесед «Внешняя жизнь и мир мыслей» (текст дополнен, снабжен приложением). В 4-й части ставится вопрос о пути (принципах), идя по которому, человек может обрести внутренний мир и решить свою главную внутреннюю «проблему» (срывы, тяга к аномальным процессам). А также – обрести внутренний мир, даже и при наличии таких «внешних» факторов, как занятость, вовлеченность в производственный процесс, события, общение.
Главная проблема – у каждого своя. Речь идет о совокупности предпосылок, на основании которых человек заваливается в срыв. У каждого срыв – в свой обрыв. У кого – в приступ депрессии, у кого – в состояние психоза (когда не получается отличить внутренние переживания от объективной реальности; как вариант – человеку начинает казаться, что другие строят ему козни, и он свои подозрения принимает за чистую монету).
Путь, описанный в четвертой части цикла «Внешняя жизнь и мир мыслей», применительно к иным видам проблемных ситуаций, см. в текстах: «Преодоление игрового механизма (часть 4)» – «Эротомания, игровой психоз и неконтролируемая приверженность»[135]; «Брешь в стене (часть 2/2)» – «Некоторые мысли о целостной духовной культуре и выходе из круга патологических состояний»[136].
Предваряющее слово слушателям
Выбор темы сложился сам собой. В течение последних нескольких дней встречался со многими людьми, но обсуждал только одну тему. Вопросы задавались разные, а ответы можно было свести к нескольким пунктам. Так как на поверхность сознания выходила одна и та же линия, я признал необходимым озвучить ее в беседе.
Депрессия и зарождающиеся диагнозы
Сложно сказать, в чем именно состоит ядро обсуждаемого вопроса. С одной стороны – депрессия. С другой – зарождающиеся психиатрические диагнозы, общая неустроенность жизни, конфликты, непонимание со стороны коллег и родственников и, обратно, непонимание коллег и родственников со стороны того «условного» человека, о котором ниже идет речь.
Современная рабочая обстановка все более и более погружает человека в аномальную для него среду. Человек ярче ощущает неестественность ритмов, которые происходят снаружи него. При отсутствии действительно выстроенной внутренней (духовной) жизни, внешняя среда подминает человека под себя, его деформирует.
Упомянул о депрессии и зарождающихся диагнозах (есть так называемые «дисфункции» – еще не инвалидность психиатрического плана, но уже и не здоровье). Кому-то кажется, что речь идет о разных вещах. На самом же деле – почти об одном и том же явлении. Когда накапливается внутреннее напряжение, во что оно выльется – вопрос второстепенный. Вопрос диагнозов отчасти тоже связан со свойствами нашей среды, убыстряющимся темпом жизни. У психиатров нет времени вникать в отдельно взятого пациента, поэтому назначаются общие схемы, которые преследуют многие задачи, но не всегда задачи самого пациента. Скорее, интересы фармацевтических компаний.
Человек в состоянии гипернапряжения теряет ориентиры («съезжает с катушек»). Ему, по сути, практически некуда обратиться. Да, есть психиатрия, но есть и стандарт – 8 минут на пациента. Есть случаи, когда даже продуманные и внимательно подбираемые схемы лечения не помогают.
Да, есть грамотные психиатры и есть действительно оказывающие помощь препараты. И здесь речь идет не отказе от врачей и фарм. поддержки. Есть замечательная лекция монаха Иоанна (Адливанкина), несущего служение в центре во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (центр создан для реабилитации жертв оккультизма и сатанизма; центр оказывает помощь людям, нередко – разрушенным, которым уже, по сути, некуда идти) «Психиатрия и душепопочение»[137]. В лекции отец Иоанн говорит о необходимости в некоторых случаях использования препаратов и фарм. поддержки.
Но с другой стороны, в обществе сложилась такая линия, что назначать препараты следует в любом случае, не особенно вникая в человека. В качестве иллюстрации к ситуации: 1–2 года человек был алкоголиком. Чтобы дать ему возможность существовать, спокойно подумать о своей жизни, заниматься внутренней работой, возможно, стоит подобрать ему лекарственную терапию. Но если просто назначать препараты, а человек над жизнью не думает, над собой не работает, то это путь бесперспективный. С каждым годом приема препарата человек «тупеет».
Одно дело, если речь идет действительно о заболевании, связанном с объективными причинами. И другое дело, если ощущение дискомфорта связано с привнесением в жизнь крена, и пока этот крен неустраним, надеяться на обретение равновесия с помощью препаратов – не утопично ли?
В идеале нередко складывается такая ситуация, что человек обходится без препаратов. Люди приходят в Храм после жизненных перипетий или занятий эзотерикой, начинают воцерковляться.
Нужно ли глушить негативные эмоции? Негативные эмоции в каком-то смысле нам нужны. Мы знаем, что если поссоримся с кем-то, то именно переживание разрыва с ближним нам помогает что-то в своей жизни изменить. Отсечение негативных эмоций с помощью внешних средств не помогает обрести гармонию жизни. Гармония обретается только вставая и падая, вставая и падая. Только так мы находим путь взаимодействия с ближними[138].
В беседах, помимо прочего, приводится мысль одного психиатра насчет врача, воспринимающего пациента как вещь, которой можно управлять с помощью таблеток и «зомбирования». Такой врач «будет пытаться избавить пациента от малейшего душевного дискомфорта, который тот считает страданием. Он начнет лечить человека “таблетками от души” или “от личности”». По мнению психиатра, наркомания является попыткой избавить человека от любого страдания, в первую очередь – «от депрессии, вызванной чувством неполноты – неосмысленности собственного существования». Наркотик выступает как средство избавления от чувств страха и неуверенности[139]. В некотором смысле в качестве аналогии здесь уместны размышления другого нарколога о конопле, с помощью которой ее потребители пытаются уйти от чувства тревожности. Нарколог считает, что тревожность является естественным и необходимым компонентом психики, «она заставляет нас мобилизоваться, размышлять и чувствовать ответственность за свои поступки. При этом мы учимся самостоятельно справляться со своими негативными эмоциями. Поэтому определенный уровень тревоги является необходимым условием для процесса становления взрослой личности». Если же с помощью эйфоризаторов (в том числе и конопли) уровень тревожности снижается, то процесс эмоционального созревания замедляется. Если эмоциональное развитие тормозится, то постепенно формируется «психопатизированная личность, которая не только сама испытывает существенные проблемы во взаимоотношениях с другими людьми, но и приносит немало беспокойства окружающим»[140].
Здесь не утверждается, что не нужно ходить к психологам. Но есть реальная картина. Знаком с профессором, сфера деятельности которого – подготовка молодых специалистов психологов. Этот человек говорит, что за всю профессиональную жизнь встретил только нескольких достойных специалистов. И это говорит человек с многолетним (несколько десятков лет) опытом работы. Если он встретил только нескольких адекватных психологов, то каковы наши шансы?
Если мы верим, что живем в мире, который регулируется Промыслом Божиим, то мы верим, что какой-то путь для человека уже предложен. Если есть вера в Промысл, то приходим к мысли, что христианская жизнь (как она задумывалась) даст человеку возможность пройти его путем и избежать депрессии. На этом не останавливаемся, но признаю, что адекватного взгляда на депрессию я не встречал.
В наши дни китайцы утверждают, что нашли лекарство от депрессии – «Кетамин». Как можно осмыслить это утверждение?
Этот препарат сейчас назначают роженицам, чтобы несколько распылить сознание. Исследования показывают, что во время депрессии у человека активируется некая область головного мозга, ответственная за принятие решения. Если у человека есть неразрешенный вопрос в жизни, что глубоко противоречит его внутреннему устроению, то организм «выключает» все остальные жизненные функции (радость от еды, от общения с близкими), чтобы человек задумывался только над тем вопросом, который стоит конкретно перед ним. Распылять этот вопрос «Кетамином» – значит только усугубить депрессию человека.



