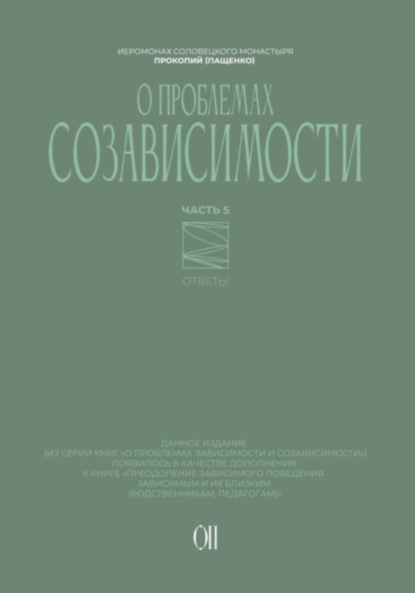
Полная версия:
О проблемах созависимости. Ответы на вопросы
Разбирая семейные проблемы, очень важно слышать обе стороны.
Людям из консервативных семей, которые видели в жизни только хорошее, сложно оценить ситуации, похожие на вышеприведённую. За таких людей можно только порадоваться, потому что они никогда не видели искажения человеческой психики, когда один пытается уничтожить другого.
В любом случае очень важно дать женщине вернуть свою субъектность и картину мира, дать ей какую-то точку опоры, поддержку, может быть, аккуратно подвести её к представлениям о духовной жизни, и тогда она, внутренне изменившись, в зависимости от своей совести, примет решение, куда ей дальше двигаться.
Я знаю другую женщину, которая решила жить с пьющим мужем. У неё есть свой вариант поведения, когда он выпивший. Она ему говорит, что не будет с ним общаться, пока он пьян. Муж не шумит и не ругается, а просто уходит в другую комнату отоспаться. В целом их жизнь не стала невыносимой, потому что её муж не был тираном. Эта женщина не думает о разводе, и здесь тоже есть качество её субъектности, которое нельзя ломать.
Насчёт просьбы ребёнка. Процесс должен быть обоюдный. Если он хочет, чтобы ты помогала, тогда и он должен выполнять твои условия. А то бывает так, что у мамы просят помощи, но не терпят никаких расспросов. Мол, ты мне деньги дай, но на что они пойдут, не смей спрашивать. Тут надо объяснить, что, если хочешь помощи, то должен прислушиваться к советам родителей и выполнять условия, на которых они согласны тебе помогать. Если ребёнок не хочет выполнять ваши требования, то тогда, как говорится, на нет и суда нет.
Пока человек в стену не упрётся, ему бывает трудно что-то поменять в своей жизни. В таких случаях хорошо бы собраться и спокойно заключить определённый договор с ребёнком. Если ребёнок берёт в долг, а потом родителей обвиняет, что они плохо его воспитали, поэтому он теперь такой зависимый и неустойчивый, надо поговорить с ним по-взрослому.
Канадский судебный психолог, известный своими исследованиями в области криминальной психологии, Роберт Д. Хаэр говорил, что иногда холодность родителей по отношению к детям является причиной того, что у детей возникают психологические проблемы, просто родители не видят в детях отклика, и поэтому от них отстраняются.
Некоторые мысли Р. Хаэра:
В тексте «Детям – жизнь от родителей или родителям – жизнь от детей?», в главе «Заключение (скорее – многоточие). Лобные доли и эмпатия».{49}
А также – в цикле бесед «Родители и дети». Беседа 11.3. Немного про гаджеты. Демонстративность. Психопатия: вина ли родителей? Выход детей из изоляции.{50}
Одно дело не давать ребёнку денег на бесконечные развлечения, а другое дело – когда ему могут голову открутить, потому что он вляпался в историю с крупной суммой денег, пытаясь по-быстрому заработать.
Обычно угрозы родителей типа «последний раз помогаем», остаются просто разговорами, они быстро забываются.
Разговор не забывается человеком ответственным, тем, кто знает цену своему слову и ценит время других людей. Такой человек на всю жизнь усвоит услышанное. Человек, который готов на любые обещания и условия, чтобы выплатить долги и дальше жить комфортно, не меняя ничего в своей жизни, как только получит, что хотел, тотчас забудет все свои обещания и все повторится по кругу.
Тут не стоит говорить, что первый или последний раз тебе поможем. Просто, как со взрослым человеком заключить соглашение, согласно которому, если он выполняет свою часть договора, то может рассчитывать на ваше участие. Может, это похоже на какой-то капитализм, но когда утрачена возможность договориться с ребёнком по-человечески, тогда приходится поступать так.
Одна мама, которая поместила своего ребёнка в реабилитационный центр, рассказывала, что сыну нужна была помощь, но уже было много случаев обмана с его стороны. Родители решились помочь ему последний раз по-крупному, принять участие в его реабилитации, и был заключён договор. Мама написала, что она готова сделать для своего ребёнка, а сын написал, что если его заметят в состоянии употребления, то его мама может сразу обратиться в полицию. Они старались этот договор друг с другом выполнять. Понятно, что это не совсем по любви, но человек, находящийся в аномальном состоянии, не способен на человеческие чувства. Когда сын из наркотического угара вышел, у него к маме осталась любовь.
Советую поступить по примеру этой женщины. Пусть сын напишет своей рукой, что если ещё раз возьмёт в долг крупную сумму денег, предварительно не обсудив свои проблемы с родителями, то не имеет права обвинять родителей и перекладывать на них свои проблемы, апеллируя к тому, что родители его искалечили и сделали зависимым и сломленным человеком; что он согласен с тем, что не получит помощи, если нарушит условия договора и не будет предъявлять родителям никаких обвинений.
Если ребёнок видит, что вы непостоянны, то, конечно, будет вами манипулировать. Зависимые люди (не только от наркотиков, но и от других страстей), когда попадают в переделку и надо дать какое-то объяснение произошедшему, часто прибегают к наиболее удобному способу: перекладывают ответственность на другого. Если надо дать объяснение маме, они говорят: «Ты мной не занималась, я рос один, я травмирован! Чего ты ожидала?»
Ответ «Состоятельному мужчине, угнетённому общением с братом-наркоманом».{51}
Сейчас психоаналитики говорят, что ребёнок может быть травмирован, если не сможет что-то рассказать маме. Ну, а как же тогда в советские годы? Вот дети моего поколения с определённого возраста поступали в детский сад, ездили в летние лагеря, и я не помню, чтобы я был травмирован этим. Мы хорошо проводили время в этих учреждениях, играли, учились развивались. А сейчас это описывают, как ужасное испытание, выпавшее на долю советских детей, потому что они должны были есть манную кашу, которая, возможно, кому-то не нравилась.
Одна женщина, которая занималась эзотерикой, мучилась от панических атак. Ей психологи сказали, что в пять лет мама её на руки не взяла, и отсюда её проблемы. То, что погружение в оккультизм стало причиной её болезней, выяснилось позднее.
Договор, о котором я говорю, не свидетельствует о том, что отношения между родителями и детьми разорваны. Он только проясняет некоторые моменты относительно ответственности за свои поступки. Пусть ребёнок напишет своей рукой договор, согласно которому он может рассчитывать на помощь родителей только в том случае, если прежде, чем что-то сделать, он предварительно обсудит свои планы с родителями по-честному. Но если он без ведома родителей возьмёт в долг крупную сумму или начнёт какой-то бизнес-проект, то не имеет права идти к родителям с обвинениями и претензиями.
Какое бы решение вы бы не приняли, оно должно исходить из состояния внутреннего мира. Если сын начнёт вас обвинять, что вы виноваты в том, что он ввяз в финансовые трудности, надо аккуратно предложить ему устроиться на работу и сказать, что если он хочет сохранить хорошие отношения и надеяться на какую-то помощь с вашей стороны, ему нужно оставить обвинения и вносить свой посильный вклад в исправление сложившейся ситуации.
Не всегда нужно действовать так, как сказано выше. Если ребёнок не пытается манипулировать людьми, может и не стоит говорить так строго, потому что никто из нас не застрахован от ошибок. Когда ребёнок находится в хороших отношениях с родителями, но допускает какие-то ошибки, даже если что-то скрывает, но мы понимаем, что это не ведущий его вектор поведения, то мы должны учитывать, что ребёнок может так вести себя под воздействием страха, отчаяния или желания не быть отвергнутым, поэтому сейчас он выкручивается как может. Когда проглядывается явная попытка манипулировать родителями, идти на поводу такого поведения не стоит, но в то же время нужно оставаться людьми и не терять человеческий облик.
В такие минуты не надо думать, не надо давать уму бесконтрольно шататься туда-сюда, лучше молиться. Мне духовник советовал читать чин двенадцати псалмов{52}.
Я его читал в сокращённом варианте, но ты сейчас не работаешь, время есть, поэтому можешь читать полностью. Ты сейчас находишься в изменённом состоянии сознания, и тебе надо из него выйти.
Раздел 3. Созависимость. Главный вектор – в построении ядра, а не в отстранении (жене пьющего)
Ты говоришь, что муж выпивает, манипулирует тобой, имеет определенный пунктик насчёт денег: сам тратит крупные суммы, а с тебя требует деньги на оплату коммунальных услуг. Ты теряешь равновесие.
Когда у человека появляется внутренняя сила, люди к нему начинают прислушиваться, то есть в его отношении прежняя манипулятивная стратегия перестаёт работать. Крючки, с помощью которых манипулятор цепляет человека, не могут за такого зацепиться. В беседах «ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ» (ЖИЗНЬ СЕРДЦА): офисы, мегаполисы, концлагеря»{53} мы разбирали, что заключённые концлагерей со временем теряли способность принимать самостоятельные решения. Речь не о том, чтоб пукнуть в общественном месте, считая, что имеешь на это основания. Мы рассматривали случаи, когда человек перерастает свою прежнюю меру в любви к ближнему и выбирает, например, поделиться с ним последним куском хлеба.
Об этом же писал Бруно Беттельхейм. Он отмечал, что в немецких концлагерях наказывалось сопереживание, которое проявляли заключённые друг к другу, потому что это чувство помогало жить и принимать самостоятельные решения. Способность делать осознанный выбор является основой выживания в целом, поэтому она необходима человеку в экстремальных условиях.
Функции мозга, которые длительное время не используются, атрофируются. По этой причине в немецких лагерях наказывались поступки, вызванные сопереживанием. Также могли наказывать за чтение книг, за творческую деятельность, скажем, рисование или сочинение стихов. Тюремное начальство пыталось блокировать всё, что человека развивает. Если у заключённого не было внутреннего источника движения, или он терял его в условиях лагерной обстановки, то со временем лишался человеческих качеств и превращался в животное, его мир сосредотачивался вокруг нескольких вопросов тюремной жизни: он мог думать только о еде и о том, жестокий ли сегодня надзиратель на смене. У родственников зависимого наблюдается нечто подобное, когда они могут думать только о том, придёт ли близкий человек домой трезвым.
В беседах мы как раз разбирали, что есть ошибочные стратегии. Немецкие лагеря были устроены по одной схеме. Когда человек переводился из одного лагеря в другой, он не замечал никаких изменений. Лишающая личностных черт жизнь лагеря не давала пищу уму, у человека не оставалось ничего, что заставляло бы мозг работать.
В современном мире человек также находится в море обезличивания и теряет себя. В этих условиях часто делают ставку на индивидуализм. Чтобы выделиться из толпы кто-то красит волосы в красный цвет или пытается одеться экстравагантно. Человек, в попытке выделить себя из обезличивающего моря, ставит под удар контакты с другими людьми, думает, что стоит поднять нос кверху, и станешь особенным. Но и опыт лагерей, и православная аскетика, и светская психиатрия говорят, что лишь при живом, открытом взаимодействии с людьми мы растём, вырабатываем какие-то навыки, не зря у святых отцов есть выражение: «Наше спасение в ближнем». Конечно, спасает Господь, но при взаимодействии с ближними мы развиваемся и становимся способным принять Божественный свет. Мы об этом много раз говорили, поэтому не буду повторяться.
Также ошибочна стратегия ожесточения, которая широко практиковалась в концлагерях. Например, эсэсовец читал список заключённых, которым пришли письма. А потом на глазах у них сжигал эти письма, так и не передав их адресатам. Людям казалось, что, если способность чувствовать приносит страдания, может лучше отключить это чувство и жить без страданий. Такое решение приводит к провалу. Возьмём в пример врача, который решил очерстветь сердцем и не беспокоиться об умирающих пациентах. Но у человека один мозг и одно сердце на все случаи жизни. Поэтому теперь общение с близкими у него будет без сердечной теплоты и участия.
Если человек черствеет, то теряет способность чувствовать ситуацию, принимать верное решение в экстремальных условиях. Утрата этой способности может подвести человека к гибели. Поэтому, как говорил Клайв Стейплз Льюис[3], важно не блокировать чувства, а исцелять их (я передаю его мысль своими словами).
Его мысли и комментарии к ним применительно к вопросу о созависимости – в главе «Почему дистанцирование от тревог – ложный путь» из части 3.3 текста «КОНЦЕПЦИЯ материалов о преодолении ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ, подготовленных иеромонахом Прокопием (Пащенко)».{12}.
Общая идея святых отцов состоит в том, что внутренние процессы в человеке должны проходить с разумной целью. Если он отрывается от истины, отрывается от Христа, не идёт путём добродетелей, то эти процессы становятся страстями. Страсть и страдание – первое всегда приносит с собой второе.
Важно понимать, что есть промысл Божий в отношении нас и наших близких. Мы не можем его видеть, но любовь к нашим ближним можем реализовать через свои молитвы о них. Вопрос, как мы можем при этом себя чувствовать, для этого ответа не является центральным.
Человек, выбирая стратегию ожесточения и очерствения, чтоб меньше страдать, перестаёт чувствовать обстановку и превращается в живой труп. Потому что мозг, который не стимулируется принятием самостоятельных решений, тупеет. По этой причине люди в обезличивающей обстановке начинают уходить в игроманию, во всякие БДСМ практики. Один автор объяснял, что его пациенты обосновывали просмотр порно желанием простимулировать мозг. Но в результате такой стимуляции рождается проблема гораздо большего масштаба: формируется патологическая доминанта, которая подавляет мыслительный процесс.
Вообще, ошибочных стратегий много, но здесь хотелось бы сказать о том, как эти ошибочные методы реализуются в современных психологических концепциях, которые себя позиционируют как средство помощи родственникам зависимых. Например, освобождение от чувства вины. Зависимый человек или его родственники оправдывают своё поведение тем, что находятся в тяжёлой обстановке. Мол, если бы было возможно жить по-человечески, я бы жил по-человечески, но, так как это невозможно, я веду себя по-скотски. Или жена оправдывает свои истерики тем, что муж довёл. Что женщина в семье, что заключённый в концлагере соглашаются с идеей, что они – песчинки жерновах истории, они подписываются под мыслью, что внешнее их лепит. По мнению А.В. Брушлинского тоталитаризм как раз заключается в убеждённости, что человека лепит внешняя среда.
«Сейчас – увы! – слишком широко распространено насилие (вооружённое, политическое, экономическое, экологическое, педагогическое и т. д.), но оно никак не может отождествляться с деятельностью. Тоталитаризм тоже стремится превратить деятельность вождей в насилие и соответственно всех других людей – лишь в объекты общественных влияний. Такому чудовищному отождествлению и превращению деятельности противостоит именно гуманистическая трактовка человека как субъекта… Гуманистическая трактовка человека как субъекта противостоит пониманию его как пассивного существа, отвечающего на внешние воздействия (стимулы) лишь системой реакций, являющегося «винтиком» государственно-производственной машины, элементом производительных сил, продуктом (т.е. только объектом) развития общества. Такое антигуманистическое понимание человека, характерное для Идеологии и практики тоталитаризма…»[4]
Человек, согласившись с тем, что отобрал у товарища хлеб или ещё что-то нехорошее сделал, попав под влияние среды, теряет здоровую инициативность, которая позволила бы ему измениться в лучшую сторону. В беседах мы стоим на том, что все эти три стратегии: избавление от сопереживания, ожесточение и ложное освобождение от чувства вины, – провальные.
Человеку для того, чтобы жить, нужна точка отсчёта. А этой точкой является связь со Христом. Если мы связь со Христом не теряем, то понимаем, что в этой жизни формируем облик, который возьмём с собой в вечность. И это понимание является основой нашего выбора. Кстати, и Виктор Франкл отмечал, что главным фактором выживания является опора на будущее. Мы в беседах разбирали эту тему и отмечали, что опора на будущее в человеческом измерении тоже может быть ошибочной. Например, ждёшь встречи с близким человеком, а он умирает. Так, бывало, заключённый жил мыслью увидеться с любимой, старался выжить ради встречи с ней, и, если узнавал, что она умерла, у него не оставалось мотива жить.
См. главу «"Здесь и сейчас" или точка опоры в будущем» из текста «Внешняя жизнь и мир мыслей», часть 4.2 «Болезненная капсула и путь к внутреннему миру, стрессоустойчивость».{55}
Опора на будущее – это то, что мы формируем здесь и берём с собой в вечность. В частности, раздражаясь, мы формируем облик, который станет основой нашего страдания в будущем, поэтому мы мобилизируемся, начинаем молиться, иначе выстраиваем отношения с ближними, в хорошем смысле слова мы живём. А пока мы живём, внешняя среда не может в нас сформировать условный рефлекс, ей трудно нас программировать. Именно поэтому в немецких концлагерях способность принимать решения подавлялась. Бывает, у человека нет книжек, которые он мог бы читать, ему не с кем общаться. Он сидит в тёмной комнате. Но почему он не сходит с ума, не деградирует? Потому что, если чувствует, что начинает раздражаться, становится на молитву. Смысл в том, что у него есть источник движения, и он много раз на день принимает самостоятельные решения. И когда такой человек сталкивается с манипулятором, то манипулятору трудно его подавить, потому что у него многолетней практикой выработан навык принимать самостоятельные решения в любой обстановке.
Для самостоятельных решений кроме Христа трудно найти другую точку отсчёта. Например, человек пишет стихи, и это его утешает, а потом он впадает в уныние, и поэзия его больше не радует. Так же может случиться с музыкой или наукой, если ими заниматься, чтоб сознание жило. Если у человека нет опоры на Христа, он не может срастить поэзию, музыку или научные данные в одну картину. Только через связь со Христом возможно это сделать.
Если ты это делание берёшь за основу (опору на Христа), то со временем научишься говорить даже с теми людьми, с которыми раньше это сделать было невозможно. Ты научишься понимать, где стоит говорить, а где лучше промолчать, будешь замечать состояние внутреннего мира и его потерю. Это заставит тебя пересмотреть своё поведение. Тобой трудно будет управлять, потому что практики манипуляции как раз и строятся на неспособности человека принимать самостоятельные решения.
Ты правильно поняла, что всё держится на твоём свободном решении. Действительно, наше решение иногда блокируется нашими страхами. Мы не раз в беседах разбирали понятие субъектности, это – человек на высших этажах своего творческого развития. Имеется в виду не литература или другое искусство, хотя у кого-то субъектность может выражаться и в творческих идеях. А в том, чтобы принять творческое решение в отношении своей жизни, как и что изменить в ней. У Силуана Афонского[5] есть мысль о том, что жизнь – это постоянное переделывание себя, а без этого она становится распылением. Кто-то считает эти слова слишком категоричными. Просто мысль выражена в одном предложении, а если её развить, развернуть, то она не будет столь категорична. Мы адаптируемся к миру либо со знаком плюс, вырабатывая новые навыки, новые понимания, либо со знаком минус, подчиняясь какой-нибудь окружающей действительности.
Смысл не в том, что подчиняться – это всегда плохо. Мы подчиняемся гражданским законам, учебному процессу, системе тренировок. Если у нас есть ядро личности, мы должны понимать, где грань, за которой подчинение может привести к нашему обезличиванию. И тогда делаем выбор. Мы постоянно работаем над собой, себя переделываем. Игнатий Брянчанинов говорил, что монашество не может оставаться на месте. Оно всегда развивается. Мы либо даём себе в пищу Евангельские смыслы, либо сознание перерабатывает своё падение, страхи, огорчения, ненависть, досады, обиды. Очень важно дать своим чувствам правильное направление. Да, мы всегда себя переделываем, но нужно всё-таки выбрать Евангельскую сторону, поэтому по большому счёту в оценке наших страхов главный вопрос в том, чего мы, собственно, боимся. Например, ребёнок боится, когда к нему в школе подходят старшеклассники. На логическом уровне понятно, что они его не убьют, хотя и такие случаи иногда в школах встречаются.
Задача в том, чтобы у человека раскрылось то, что называют ядром личности, стержнем. В беседах мы говорили, что наши социальные навыки выстраиваются вокруг божественной искры, которая нам даётся в таинстве причащения. Мы получили внутренний мир, но через пятнадцать минут потеряли. И мы учимся понимать, почему это случилось, и вырабатывать те навыки, которые нам позволят этот мир хранить. Также выводим из жизни то, что способствует этой потере, отрезаем от себя. По мысли Силуана Афонского, перерабатываем ситуацию. Мы, может, правильно ребёнку сделали замечание, когда он набедокурил, но подмешали туда свой гнев, сделали замечание без любви, поэтому и чувствуем себя плохо. Это не значит, что надо отрешиться от ребёнка или от родительских задач по воспитанию, а требует научиться говорить, может то же самое, но учитывая время, место и обстоятельства.
Таким образом потихонечку формируется субъектность. А если человек подавлен бесконечным просмотром роликов, злостью, ненавистью, то он не может эту субъектность проявить. В беседах мы не раз разбирали, что значит быть человеком, говорили, что, когда человек ненавидит, у него ничего не остаётся, кроме ненависти, он теряет способность к креативному поведению. Ты можешь поступить так, а не иначе. Тебя ситуация выводят из себя, но ты способен держать равновесие, спокойно выяснить у человека, в чём дело. Почему, например, он звонит тебе ночью. А если мы находимся в состоянии страстном, то у нас единственная реакция – это гнев: вспылить и наговорить что-то обидное.
Возвращение себе внутренней свободы – это процесс долгий. Когда ты освобождаешься от ограничений, которые описываются словами гнев и злость, ты реагируешь спокойно на то, что с тобой кто-то не считается, не принимает твою точку зрения.
У меня есть работа: Родственникам зависимых (справедлива ли концепция «созависимости»?) Лекции и тексты иеромонаха Прокопия (Пащенко). По ссылке{46}, можно ознакомиться с её содержанием.
А насчёт того, что почитать твоему мужу, чтобы не спорил, скажу вот что. Ты считаешь, если он почитает святых отцов о браке, то не будет спорить. Но если человек выбрал такую точку зрения, что только он прав, то он начнёт спорить и со святыми отцами. Здесь важно понимать причину споров. Возможно, стоит поговорить с приходским священником. Здесь важно, чтобы позиция участников беседы была аргументирована. Если кто-то излагает свои мысли на скорую руку, на глазок говорит что-то, то понятно, что нет проникновения в ситуацию, нет устойчивой точки зрения. Тогда у другого человека возникает протест, так как у него есть свой жизненный опыт. Точка зрения должна быть обоснована и подкреплена святыми отцами. Хотя они и не писали напрямую о каких-то семейных взаимоотношениях, но они дают общий настрой, как камертон, который издаёт определенную ноту, ты её слышишь и понимаешь, каким должен быть прочий звукоряд.
Один профессор отмечал, что причина тревоги заключается в том, что человек испытывает неустойчивость при взаимодействии с миром символов. Вокруг нас очень много разных представлений: общество, Родина, любовь, супруги, родители, дети, долг, честь, совесть. Десятки и сотни понятий, находящихся во взаимном сцеплении. Это всё трудно соединить в единое целое математической формулой. Ты можешь определенным образом настроить своё нутро, чтобы воспринимать эти идеи адекватно, понимать, чем на самом деле является то, что определенная идея описывает.
В беседах я приводил мысли одного светского автора о том, что есть некая шкала психологического здоровья. Первая ступень – это норма, когда человек легко выходит из каких-то негативных переживаний. Сказали ему, что он дурак во время доклада, и он разбирается, была ли обоснована эта критика. Если да, то он пересматривает свой доклад. Если нет, то улыбнётся и забудет. Здоровый человек не будет неделю сидеть в депрессии от того, что его доклад кому-то не понравился. Бывает, человек встречается с критикой и понимает, что у другого может быть своя точка зрения, и дальше занимается своим делом. Спускаясь по лестнице психического здоровья до нижних этажей, можно дойти до уровня неврозов. Один знакомый нейрохирург объяснял, что у человека есть полнота коры головного мозга. Если на встречающиеся ситуации он реагирует всей этой полнотой, он может найти опору при ощущении неустойчивости при взаимодействии с миром символов. А человек, зацикленный на чем-то определённом, скажем на деньгах, реагирует на происходящее одним каким-то нейронным кольцом. Делая выбор, он не думает, правильно ли поступает относительно зла или добра. Для него главное – это доход, поэтому, принимая решение, он смотрит только на то, принесёт ли материальную пользу заинтересовавшая его затея. Если происходит непредвиденная ситуация, и такой человек теряет свои накопления, то его мир рушится. Он всё мерил деньгами, остальная площадь коры головного мозга выключена из созидательного процесса, поэтому ему нечего противопоставить денежному измерению счастья. Человек живёт по принципу анекдота:



