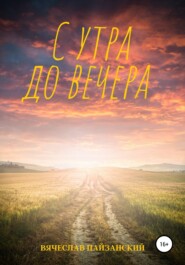 Полная версия
Полная версияС утра до вечера
Одни из них из-за искренней враждебности, другие за деньги баев вступали в басмаческие шайки, вооружаемые англичанами через Афганистан, где в горах нашли себе пристанище хивинский хан и бухарский эмир с родичами и с высшим духовенством, а также многие баи.
Басмачи объединялись в небольшие шайки для их неуловимости.
Они нападали на отдельных представителей Советской власти и кишлаки (деревни), где подавляющее большинство населения поддерживало Советскую власть, они нападали на почтовые и торговые верблюжьи караваны, единственные в то время средства связи и торгового обмена из-за отсутствия сети железных и шоссейных дорог; железная дорога Ташкент-Ашхабад и ветка от Мерва (Мары) на крепость Кушка на границе с Афганистаном, были единственными артериями культуры среди океана бездорожных степей, безграничных песков и пустыни Кара-Кум, что значит по-туркменски «черный песок».
Пески с их немногочисленными оазисами были очень удобными опорными территориями для басмачей, хорошо знавших направления верблюжих троп, постоянно засыпаемых песком, местонахождение оазисов, колодцев в песках и господствующие направления ветров в любой части Туркмении, включая Кара-кумы, в Хиве и Бухаре, в Голодной степи, в Ферганской долине и в Таджикистане, вплоть до Памира и китайской границы.
Басмаческие шайки выходили из этих опорных территорий, производили нападения, грабили и чрезвычайно жестоко расправлялись со своими жертвами: выкалывали глаза у живых, жгли раскаленным железом тело, вырезали языки, уши, нос и бросали еле живых искалеченных людей в песках для умирания.
Басмачи были только конные. У них, как правило, были хорошие, привыкшие к краю, к пескам выносливые кони: иноходцы или знаменитой Ахал-Текинской породы, обученные ходить под седлом и такие же диковатые, как их хозяева, удивительно послушные только им и понимавшие только их.
Басмаческие шайки все увеличивались в числе и появлялись совершенно неожиданно там, где их вовсе не ожидали.
Они то объединялись в большой отряд для какой-нибудь крупной операции, то рассыпались на небольшие шайки, делавшиеся неуловимыми, которые в свою очередь, в моменты затишья или для сельскохозяйственных работ рассыпались по кишлакам и отдельные басмачи превращались в мирных декхан.
Сначала борьбу с басмачами вела милиция, посаженная на лошадей. Но по мере количественного и качественного роста басмачества действия милиции стали недостаточны и мало эффективны, тем более, что милицейские отряды составлялись из местных жителей, армян, персов, туркмен, знавших многих басмачей и бывших их «кунаками».
И тогда борьба с басмачами легла на плечи частей Красной Армии.
Басмачество было в некоторых частях Туркестана, в частности в Туркмении, и при царском строе. Их отряды тогда состояли из людей обиженных царской властью, недовольных ею и баями, а также из бежавших преступников.
С установлением Советской власти большинство басмаческих шаек, разбойничавших при царизме, распалось, он, как говорили тогда, «замирились».
В описываемое время басмачи были качественно иными: они стали политическим орудием классов, утерявших власть над народом, богатства и землю, орудием буржуазии запада против молодой Советской Республики.
К непосредственной борьбе с басмачами, конечно, были привлечены только кавалерийские части и конные разведки пехотных частей.
Немного погодя, пулеметные команды пехоты были посажены на коней, а пехота сама – на верблюдов, чтобы в пешем строю можно было бить дерзких басмаческих конников, пользовавшихся преимуществом своих коней перед непривычными конями Красной Армии, прибывшими из Европы.
Запасной полк, в котором служил Койранский, был единственной крупной частью в Туркмении, так как почти все стрелковые и другие части, после красноводской победы, были отправлены в Бухару, в Фергану, в Семиречье, где еще шла борьба с белогвардейцами. В запасной полк были влиты остатки славного Казанского полка, сформированного еще в 1917 году в Татарии, успевшего прорваться в Туркестан, где неоднократно отличился в боях с белыми и англичанами.
Объединенный полк был реорганизован для новых целей, для борьбы с басмачеством. Все подразделения, выполнявшие функции запасного полка, были ликвидированны и сформированны новые – боевые: четыре команды конных разведчиков и четыре пулеметные команды полковые и по одной на каждый батальон. Кроме того, полку был придан артиллерийский дивизион конной легкой артиллерии.
Объединенный полк получил название «3-й Казанский сводно-стрелковый имени Гинзбурга полк Туркестанского фронта».
А скоро полку был вручен орден Красного Знамени, которым был награжден Казанский полк за боевые действия на Туркестанском фронте.
Начались действия полка против басмачей. Командир полка был назначен уполномоченным штаба фронта по борьбе с басмачеством на территории Туркменской области. Вся оперативная работа по борьбе с басмачеством, конечно, была сосредоточена в руках Койранского, адъютанта полка и начальника штаба уполномоченного по борьбе с басмачеством.
Однако, очень скоро стало ясно, что центром борьбы является не Полторацк (Ашхабад), а Мерв (теперь Мары), откуда расходились караванные пути на Хиву, на Бухару, на Саракс, к Афганской и Персидской границам.
И в феврале 1921 года полк был переброшен в Мерв. Он расположился здесь в старой крепости, в 3-х километрах от города.
Отсюда действия полка против басмачей были оперативнее и эффектнее. В течение небольшого срока было ликвидировано до 15 шаек, причем самых дерзких и многочисленных, а также лучше других вооруженных. Некоторые шайки ушли в Афганистан, а некоторая часть их скрывалась в Каракумской пустыни и в Хивинских песках.
Нападения на караваны прекратились или стали редкими, так как они всегда сопровождались вооруженным отрядом полка и часто с одним или двумя пулеметами.
Однако, ликвидированные шайки басмачей через некоторое время вновь появлялись и иногда под старым командованием.
Это объяснялось принятой тогда так называемой «восточной политикой». Эта политика Советской власти заключалась в терпимом отношении к членам басмаческих шаек декханам беджнякам и среднекам, которые после их пленения и соответствующей обработки, выпускались на свободу. А потом опять многие из них, искушенные баями и духовенством, собирались в шайки и разбойничали.
Некоторые шайки и отдельные басмачи 3–4 раза попадались в плен, но все-таки выпускались на свободу.
Во имя этой политики для борьбы с басмачами был сформирован отдельный национальный Туркменский кавалерийский полк, одетый в специально придуманную форму с ментиками, с желтыми суконными штанами и с традиционной туркменской папахой, опоясанной в передней части наискосок красной лентой с красноармейской звездой.
Во главе полка был поставлен старый предводитель басмачей царского времени, Арамет Софиев, ставшим мирным при Советской власти. Только помощник командира полка, начальник штаба и его помощник были русскими. Остальной состав был пополнен туркменами, по выбору Софиева.
Туркменский полк был расквартирован в Мерве и входил в оперативное подчинение командиру 3-го Казанского сводно-стрелкового имени Гинзбурга полка.
В конце 1922 года было покончено с пресловутой «восточной политикой», так как она не достигала цели.
После первой демобилизации в 3 Казанском полку почти не осталось людей бывшего Казанского полка. Поэтому полк был переименован в 16 Туркестанский стрелковый полк, а через полгода – во 2-й Туркестанский стрелковый полк.
Личную жизнь Койранского, как в Полторацке, так и в Мерве, можно было назвать замороженной. Его душа болела и временами до ужаса, но он считал себя обреченным вечной тоске и никому не жаловался. Да и некому было жаловаться.
Друзей у него не было, с Марусей нельзя было говорить об этом. Писем он Дудиной не послал ни одного, хотя написал их много.
Это был единственный канал для отвода тоски.
Отношения с женой не были плохими, но в них появился со стороны Койранского небольшой холодок, никогда уже не исчезавший из их отношений, хотя чувство Маруси так явно росло, перерастало в культ, поклонение, какое-то немое обожание.
Зато холодок был причиной и нового явления в их отношениях: безумной ревности Маруси. Она ревновала Койранского ко всем и ко всему, и не только к женщинам, хотя к ним особенно, и к знакомым и к незнакомым, и к фотографиям в журнале, и к случайно произнесенной фамилии. Это сначала забавляло Койранского, а потом стало неприятным, изводило и бесило его. Он узнал, что Маруся тайно следит за каждым его шагом, подозревая в самых нелепых фактах и, зная его гнев за ревность, ничего ему не говорила о своих подозрениях, о которых он узнавал от третьих лиц. На этой почве жизнь их взрывалась неожиданными скандалами, инициатором которых чаще всего был Койранский, так как подозрения и слежка Маруси, с привлечением чужих людей, были ему оскорбительны и ненавистны.
Он понимал, что виной всему его «холодок», но ничего не мог поделать с собой. Если бы не дети, Койранский покончил бы с этим невыносимым положением, порвав с Марусей. Но он не сделал этого, так как слишком дорогой ценой заплатил за эту жизнь с Марусей, жизнь, необходимую детям.
Его душевное состояние, естественно, не могло стимулировать занятия поэзией. В нескольких стихотворениях Койранский дал волю своему протесту против насилия над самим собой, над самыми большими чувствами своей жизни, но потом, поняв безрассудность таких жалоб, бросил вообще писать стихи.
Да и природа не вызывала поэтического настроения: песок, жара, скорпионы, отсутствие растительности и, наконец, малярия, которой заболели Койранский и дети, – вот чем отличались туркестанский ландшафт и туркестанские дела Койранского и его семьи.
И Койранский махнул рукой на поэзию.
Через много лет он узнал от Маруси, что письма Дудиной вначале были, но по просьбе Маруси приносились помощником Койранского, Головчицом, ей и что она сожгла тогда ровно двенадцать писем Дудиной, читая их.
Чувство Койранского к Вере то угасало, то вновь вспыхивало с огромной силой, оставляя в сердце незаживавшую рану, которая, при воспоминаниях о тяжелой ночи прощания, вновь кровоточила и болела.
Койранский отгонял от себя это воспоминание, но оно время от времени возвращалось. Вместе с ним вспыхивало чувство и, казалось, оно уже не погаснет, так было остро, но сознанье, что Вера не пишет, не хочет, очевидно, его знать, хоть и было больно и соответствовало его желанью, превращало его чувство к живому человеку в любовь к мертвецу. Тихая грусть и печаль все чаще сопровождали воспоминания, очищали их от остроты влечения и ненависти.
Но, вероятно, на всю жизнь осталось благоговение перед чистой и прекрасной девушкой, любви которой он оказался недостойным.
От ездивших в Бузулук в командировку Койранский узнал, что Веры Дудиной в Бузулуке нет, что она учится на медицинском факультете Самарского университета. А в тридцатых годах он ездил в Бузулук, но Веры не застал. Она, по словам ее сестры, была уже несколько лет в Иране на борьбе с чумой.
Этим закончилась сказка и оборвались мечты о счастье.
Попытки найти его много лет спустя, были также безуспешны.
26. Хивинский поход. Поездка в Россию. Конфликт с комиссаром
В июне 1921 года борьба басмачей приняла другую форму.
Неожиданно стали исчезать мелкие шайки, которые, по подсчетам Койранского, оставалось около ста. Они еще недавно активно действовали на многих оперативных линиях.
Это было истолковано, как высшим командованием, так и гражданской властью, как замирение декхан, понявших, наконец, в результате «восточной политики», природу и благожелательность Советской власти.
Но такое толкование оказалось ошибочным.
Скоро нападения возобновились и стали более дерзкими, частыми и жестокими.
Главными оперативными направлениями стали Чарджуй-Хива, Мерв-Хива, Полторацк-Хива. Это показывало, что по этим направлениям действует одна шайка, базирующаяся на Хиву и на Афганскую границу, от которой эти города были самыми близкими.
Первые столкновения подтвердили этот вывод. Они показали, что действует шайка примерно от 500 до 1000 сабель, хорошо вооруженная английскими карабинами и пулеметами системы «Гочкинс».
А вскоре агентурная разведка сообщила, что произошло объединение всех мелких шаек в одну, под командованием зятя Хивинского хана, Джунаид-хана.
Джунаид был когда-то офицером царской армии, окончил академию генерального штаба и командовал полком в «дикой дивизии», которой командовал сначала брат царя, Михаил, а потом Корнилов.
Было ясно, что буржуазия Туркмении и ее покровители затеяли крупную игру с целью оторвать Средне-Азиатские территории от РСФСР. Отдельные кавалерийские отряды, посылавшиеся по линии Полторацк-Хива и Чарджуй-Хива, были разбиты Джунаидом и почти истреблены, т. к. в песках были найдены много трупов офицеров и солдат, как всегда замученных и изуродованных.
Тогда против Джунаид-хана был брошен Отдельный Туркменчкий кавалерийский полк. Он, столкнувшись с басмачами, тут же разбежался вместе со своими командирами. Русские же командиры были взяты в плен и замученные, с выколотыми глазами, брошены в песках. Трупы их были доставлены в Мерв.
После этого Туркменский полк был обезоружен и расформирован, как только его «воины» вернулись в казармы, так как он не только не принял бой с басмачами, но, выдав на поругание своих русских командиров, частью своих солдат пополнил шайку Джунаид-хана.
В результате Хива оказалась отрезанной от основных опорных городов Туркменской области, при чем ей грозил даже захват, так как воинская часть, стоявшая в Хиве, была незначительна и снабжалась, как и весь Хивинский оазис, из Чарджуя и Мерва.
Создалось довольно грозное положение.
Тогда штаб командующего войсками области разработал план действия. Он заключался в том, чтобы послать для уничтожения шайки Джунаид-хана пехоту, посаженную на верблюдов. Кавалерийские же части должны найти шайку и, не принимая с ней боя, отходить в направлении спешенной пехоты и напороть, таким образом, басмачей на пехоту. Исполнение плана было возложено на командира 2-го Туркестанского стрелкового полка, а командующим отрядом, который должен был выступить против басмачей, был назначен начальник штаба полка Койранский.
К тому времени должность полкового адъютанта повсеместно была упразднена и заменена должностью начальника штаба, являвшимся первым заместителем командира полка.
Для этой операции во всех населенных пунктах вокруг Мерва в течении трех дней производилась мобилизация верблюдов. Было мобилизовано 650 голов. О мобилизации верблюдов противнику, конечно, стало известно, также, как о времени выступлении отряда Койранского и о пути его следования, так как басмачи везде имели свои глаза и уши, тем более, что такой огромный караван нельзя было не заметить даже совершенно неосведомленным.
Но как бы это ни было, батальон с усиленной пулеметной командой, при двух легких пушках, возглавляемый кавалерийским эскадроном и полковой командой конных разведчиков, рано утром 4-го июня выступил в поход, в пески. Обоз отряда состоял из 150 верблюдов, навьюченных продовольствием и водой.
В качестве проводника был назначен и следовал с отрядом Арамет Софиев, бывший командир Туркменского национального полка, который хорошо знал караванные пути на Хиву и хорошо ориентировался в песках.
Неудачи начались с первого дня похода. Когда вышли в пески, пришлось бросить артиллерию, так как колеса пушек глубоко врезались в песок, и лошадям было не под силу тащить их.
Пески в Туркмении – это не неподвижная песчаная почва в европейском понимании. Это – постоянно перемещающаяся сыпучая масса, подчиняющаяся пустынному непрекращающемуся ветру, почему, когда смотришь на сплошное светло-желтое песчаное море, видишь, как волны его, одна за другой, словно волны настоящего моря, долгое время движутся в одном направлении и так без остановки.
Это постоянно движущееся песчаное море на остановках отряда могло засыпать не только лежащего человека, но и лошадь, лежащую на брюхе.
Поэтому большие привалы пришлось делать дважды в сутки, один для отдыха, другой для обеда. В том и другом случае располагались вкруговую: первое внешнее кольцо – верблюды, сидящие, как для них обычно, на ногах, второе, внутреннее кольцо из коней, лежащих на брюхе, а внутри располагались люди.
При таком расположении за 4 часа песок не засыпал людей, вполовину засыпал лошадей, а верблюдов – по шею.
Первые три дня встречались стада овец, 150–250 голов. Овцы были на удивление исключительно жирными, с огромными курдюками, жировым мешком вместо хвоста. И это, несмотря на то, что единственной пищей для овец служили «колючки», колючие зеленые кустарники, не очень частые, скорее редкие, которые к осени одервенивали и декханами в кишлаках использовались как топливо.
Пастухи, пасшие эти овечьи стада, которые принадлежали либо баям, либо объединившим свои стада на время пастьбы однокишлачникам, беднякам и середнякам, на вопросы о басмачах неизменно отвечали «йок» нет, значит не видели.
Так отряд двигался по указанию проводника три дня. Во время утреннего привала четвертого дня обнаружили исчезновение проводника Арамет Софиева. Оказалось, он сбежал.
Это наводило на мысль, что противник где-то близко, так как Софиев, очевидно, боялся встречи с единоверцами-басмачами.
Движение продолжалось без него, при чем пришлось ориентироваться по компасу в направлении Хивы.
Однако, ни кавалерийский эскадрон, ни команда конных разведчиков следов басмачей не обнаруживали.
Чем дальше углублялся отряд в пески, тем реже попадались стада баранов, тем меньше было колючки и реже попадались колодцы, представлявшие собой обыкновенные ямы, наполненные водой до верха или частично. Перед употреблением воду подвергали анализу и уже на седьмой день обнаружили, что вода отравлена. С этого дня пользовались водой, взятой из Мерва.
На 11-й день командир разведки сообщил, что впереди видит огромный столб пыли-песка, очевидно, от движения большого конного отряда. Пехота сейчас же спешилась, заняла боевое расположение, предварительно разработанное, а Койранский с начальником конной разведки и начальником пулеметной команды поскакали в направлении пыли.
Когда столб пыли был уже совершенно ясен, Койранский и бывшие с ним командиры определили по длине двигавшейся пыли, что она – результат движения не менее 1500–2000 коней, что совпадало с численностью шайки Джунаид-хана, по данным оперативной разведки.
Пыль двигалась сначала в сторону отряда Койранского, как бы басмачи шли на сближение с ним для боя, а потом пыль повернула в сторону и пошла в обратном направлении. Что обозначал этот поворот? Фланговое движение противника могло быть рассчитанной хитростью, чтобы заставить пехотубросить занятую позицию и принять бой без подготовки, а могло значить, что противник отказался от боя и повернул назад.
Койранский приказал начальнику конной разведки атаковать уходящих басмачей, ударив в хвост их колонны, а потом отходить на пехоту, увлекая их за собой.
Но Кокшарову атаковать пришлось не басмачей. Колонна, совершавшая фланговый марш, была вовсе не грозный противник, которого Койранский искал в песках и которого должен был разгромить. Перед Кокшаровым было огромное стадо баранов, а впереди стада больше 200 кибиток (повозок) с женами и детьми басмаческих командиров, в том числе кибитка с двумя женами самого Джунаид-хана.
Как выяснилось из показаний кибитчиков (повозочных), а также не растерявшихся женщин, задержан был обоз противника, который ввиду отряда Койранского фланговым маршем повернул в сторону афганской границы, подставив свой обоз, состоящий из семей и продовольствия, под удар врага.
Конечно, обоз был задержан и овцы в количестве более десяти тысяч голов и все кибитки под усиленным конвоем были отправлены в Мерв. Отряд же Койранского, точно не зная, куда именно направился Джунаид-хан, продолжал движение в направлении Хивы, чтобы всегда быть между противником и отправленным в Мерв обозом.
В то же время Койранский доносил начальству, что воды надолго не хватит и что все колодцы по пути отравлены противником.
На 14-й день, когда отряд еще был на расстоянии 70 километров от Хивы, было получено приказание штаба войск области возвратиься отряду в Мерв.
На двадцатый день, к вечеру, отряд прибыл в Мерв, не выполнив задания по ликвидации шайки басмачей Джунаид-хана.
Но пленение кибиток с семьями басмачей и их продовольственной базы заставили Джунаид-хана уйти с территории бывшего хивинского ханства и отказаться, пока семьи в руках Советской власти, от активных действий против нее.
Поход, продолжавшийся только двадцать дней, был очень утомителен из-за большой жары (до 60 градусов) и заболеваний малярией, охватившей почти половину отряда, а также из-за совершенно недостаточного питания людей и лошадей водой.
Койранский также был болен малярией и ее ежедневные приступы порядочно измотали его.
Его болезненное состояние осложнилось еще потертостью седалища и ног до крови от непривычки долгое время находиться в седле.
Через две недели ему был предоставлен отпуск на полтора месяца для поездки в Россию и отдыха вне Туркестанского климата, что позволяло надеяться и на излечение малярии.
В начале июля Койранский с семьей, предварительно списавшись со старшими мальчиками Маруси, приехал в Дмитров и поселился в деревне Овсянникове, в восьми километрах от Дмитрова, в домике, специально нанятом мальчиками, пустовавшем ранее.
Деревня Овсянниково была намечена, вследствие ее близости с Даниловским поселком, где жил их отец, для удобства детей, которые, таким образом, целыми днями могли быть в обществе матери и Койранского.
Лес, окружавший деревню Овсянниково, хорошее питание, обеспеченное военным пайком, получавшимся из Райвоенкомата, а также продуктами, привезенными из Туркестана (пшеничная мука, рис, изюм, сушенная дыня), а главное постоянное общение с любящими ребятами и прогулки с ними, сделали отдых замечательным.
Малярия, казалось, навсегда оставила Койранского, так как она за все время отпуска не проявляла себя, и он забыл о ней.
Шесть недель отпуска пролетели быстро, незаметно. Пришло время уезжать. С матерью не хотела расставаться четырнадцатилетняя дочь Маруси, Лариса, и пришлось ее взять в Туркестан вопреки отцу и его новой жены, но с согласия старших братьев.
С Койранским также пожелала ехать старая нянька Ефросинья Павловна, привыкшая к их семье и скучавшая по выращенным ею детям.
Обратный путь от Москвы в Туркестан оказался очень тяжелым, невозможно трудным. Вместо обычной недели он продолжался пять недель.
К этому времени расстройство движения на железных дорогах дошло до предела. Оно усиливалось огромным наплывом людей-пассажиров, уезжавших в Среднюю Азию, спасаясь от невиданного голода, поразившего центр России и особенно Поволжье.
Продуктов, взятых с собою в дорогу, конечно, не хватило, немного помог командир батальона стоявшего в Актюбинске Отдельного батальона, когда-то выделенного запасным полком, стоявшим в Бузулуке; и этого оказалось недостаточно. Пришлось много продуктов покупать в пути по дорогим ценам. Койранские остались без денег. Продали много вещей носильных, ягодное варенье и сушенные грибы, заготовленные за время отпуска.
Только в конце сентября Койранские вернулись в Мерв.
И, конечно, малярия вновь набросилась на ослабленный длительной полуголодной дорогой организм Койранского.
И все же Койранский был доволен и своим Хивинским походом, и отдыхом в Овсянникове. Они отвлекли его от мрачных дум и рассуждений, от тоски по Вере Дудиной.
В России он увидел мирную жизнь, налаживающееся хозяйство, первые шаги по элетрофикации страны и перед ним встала новая цель: уйти с военной службы, посвятить себя мирному труду по строительству новой России. Это намерение живо поддерживала Маруся, которой хотелось жить около своих старших детей, из которых самый младший так еще нуждался в материнской ласке и заботе, которых он был лишен в новой семье отца.
С этого времени все мысли Койранского были направлены именно на это. Но нужно было ожидать, когда начнется общая демобилизация армии, о которой уже ходили, пока неосновательные, слухи, неосновательные потому, что еще на территории Советской Республики орудовали вражеские банды и можно было ожидать новых вторжений врагов из-за рубежа. Это особенно касалось Туркестана, куда Англия, выброшенная из Советской страны, старалась засылать басмаческие шайки и организовывать контр-револлюционные восстания, опираясь на помощь подстрекаемого ею Афганистана, с которым безуспешно велись мирные переговоры Советским Правительством.
В полку Койранского ожидала новость: вместо переведенного в Россию Мирошкина приехал новый комиссар полка Муравьев, бывший матрос, молодой, нелюдимый и очень подозрительный, в каждом командире видевший контр-револлюционера. Он очень странно держал себя в полку, с командным составом был враждебен, смотрел на него с презрением.



