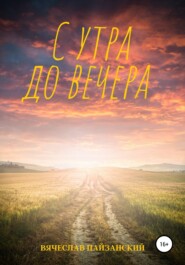 Полная версия
Полная версияС утра до вечера
Здесь Койранский остановился, получив сведение, что сюда должен прибыть командующий бухарской группой войск, чтобы доложить ему о гаманской эпопее. Эскадрон же отправился дальше, тепло простившись троекратным «ура» со своим временным командиром в обороне мельницы «Гаман».
Командующий, как оказалось, в Новую Бухару не прибыл в этот день. А жестокий приступ малярии с небывало высокой температурой заставил Койранского обратиться в санчасть квартировавшего здесь 4-го Туркестанского стрелкового полка.
Пролежав пять дней, Койранский, по приказанию командующего войсками Туркменской области, узнавшего о нем случайно, по железной дороге отправился в Мерв, куда уже возвратилась большая часть родного полка.
28. Возвращение в Россию
В полку Койранского ожидал приказ командующего войсками области о назначении его временно командующим 2-м Туркестанским стрелковым полком вместо выбывшего из полка Пилиневича, уволенного с военной службы за бытовое разложение.
Вступив в командование полком, Койранский письменно рапортовал по начальству о той роли, какую ему пришлось выполнять земле вместо полученного задания командования.
Он ожидал нахлобучки, а может быть, и наказания.
Пока рапорт Койранского разбирался в Ашхабаде, а потом, пересланный в штаб фронта, в Ташкенте, сам он продолжал сильно страдать от приступов малярии и от разразившейся над ним новой беды: он заболел одним из видов цынги, гингевидом, – результат питания пресными лепешками на мельнице Гаман.
Зубы шатались, десны стали мягкими и кровоточили. Можно было питаться лишь жидкой пищей. Температура и без малярии доходила до 40.
Койранский слег в постель. Лечить цынгу было нечем. Обычные же средства не давали облегчения.
В это время Койранский был вызван в Ташкент, к командующему Туркестанским фронтом.
Койранский телеграммой уведомил штаб фронта о своей болезни, сообщая, что прибудет по излечении, и, кроме того, командировал в штаб фронта главного врача полка с докладом о его тяжелом состоянии.
Главврач Красновский вернулся с хорошими вестями: начальник штаба фронта передал с ним пожеланье скорейшего выздоровления и о намерении командующего представить Койранского к награде за гаманскую оборону.
Врач привез также лекарство от цынги, очень дефицитное, полученное в санчасти штаба фронта при содействии начальника штаба. Это лекарство в течение двух недель излечило цынгу и только малярия изредка, после нескольких хинных вливаний, еще давала о себе знать.
Оправившись, Койранский отпарвился в штаб фронта.
Командующий, т. Шапошников, принял Койранского, подробно расспросил о боях на мельнице Гаман и выразил ему благодарность от лица службы. Он сообщил Койранскому, что в Красной Армии введены звания командного состава и что ему будет присвоено звание «комбриг» в награду за Гаман и что он будет утвержден в должности командира 2-го Туркестанского стрелкового полка.
Поблагодарив за генеральское звание, Койранский выразил желание демобилизоваться, с тем, чтобы на мирном поприще, к которому он себя готовил, приносить пользу Отечеству, тем более, что для него наступили мирные дни.
Командующий был явно недоволен стремлениями Койранского и, отпуская его, посоветовал выбросить из головы его гражданские мысли, так как Красной Армии нужны такие, как он, командиры, имеющие образование и боевой опыт для построения еще более сильной военной организации. А в Мерве Маруся была недовольна, что мужу предстоит остаться на военной службе навсегда и, главное в Туркестане, так как закаленных в его климате не переводили в центральную Россию. Ее надежды жить вблизи старших детей были разбиты.
Через месяц был получен приказ фронта об утверждении Койранского в должности командира полка и о присвоении ему звания «комбриг».
Койранский нашил на воротник и на рукав красный ромб.
В душе он был очень польщен, тем более, что авторитет его в полку, благодаря званию, чрезвычайно возрос.
Его перестали занимать мысли о демобилизации и о переезде в Россию. Он сказал себе: раз государству нужно, чтобы я всю жизнь оставался на военной службе, я должен, как дисциплинированный гражданин, исполнить это требование.
И в то же время он понимал, что на нем лежит обязанность стать членом ВКП(б), тогда доверие к нему будет еще сильнее.
И он подал заявление, получив рекомендации комиссара полка Калинина, его помощника Степанова и комиссара 1-го батальона Капкаева.
Партийная ячейка полка единогласно приняла Койранского в кандидаты партии.
Ее решение утверждалось Политотделом бригады. И здесь двое из рекомедовавших его, Степанов и Капкаев, заявили, что якобы Койранский скрыл, что в 1917 году он сидел в тюрьме в Саранске, хотя в его анкете об этом было ясно указано. То ли Степанов и Капкаев не читали анкеты, то ли они умышленно сделали свое заявление, но Политотдел, вопреки протесту комиссара полка Калинина и здравому смыслу, не утвердил постановление полковой партийной ячейки.
После этого коммунисты полка под влиянием Степанова и Капкаева стали с недоверием относиться к Койранскому и по полку поползли разные вздорные слухи о контрреволюционном прошлом Койранского, о службе, якобы у белых и его взглядах, из-за которых Политотдел не утвердил приема его в партию.
Политотдел бригады донес обо всем в штаб войск области и потребовал отозвать Койранского из полка, в котором он прослужил три года.
Это требование было выполнено: в августе 1922 года Койранский был переведен в Ашхабад, в штаб войск Туркменской области на должность помощника начальника оперативной части, а через месяц после перевода, – начальником оперативной части.
Обозленный несправедливыми обвинениями и переводом из родного полка, Койранский решил всячески добиваться демобилизации, не без основания считая свою репутацию в армии окончательно подорванной лживыми слухами, распространяемыми друзьями и собутыльниками бывшего комиссара полка Муравьева, утверждавшими теперь почти вслух, что Муравьев – де был прав, арестовав в свое время Койранского, как контрреволюционера.
Раз решив уйти из армии, Койранский уехал в Ашхабад один, оставив семью в Мерве на полковой квартире, с согласия заменившего Койранского нового командира полка Лешова, бывшего командира 3-го батальона. И хотя для семьи Койранского была в Ашхабаде приготовлена квартира, он под разными предлогами не спешил с перевозкой семьи в Ашхабад.
Койранский приезжал к семье 1–2 раза в месяц и всякий раз уверял Марусю, что он сумеет найти повод для демобилизации.
Но повода не находилось. Напротив, его начальство было благосклонно к нему и давало понять, что его ждет в скором времени должностьначальника штаба и звание комдива.
В ноябре Койранский заболел: приступы малярии, следовавшие один за другим с очень небольшими перерывами, а иногда и без перерывов, констатация врачей о бесполезности лечения хиной, так как в крови у больного образовались хиноупорные плазмодии, вновь возбудили надежды Койранского на демобилизацию.
Только перемена климата, утверждали врачи, может спасти Койранского от туберкулеза и гибели.
Койранский потребовал назначенья его на медицинскую комиссию.
По должности и званию Койранского только фронтовая комиссия была правомочна решать его судьбу.
После длительной борьбы он добился своего: его назначили на фронтовую медицинскую комиссию, и он поехал в Ташкент.
Здесь его предварительно положили в госпиталь при штабе ронта для иследования и наблюдения, а через 10 дней подвергли комиссованию. Комиссия имела очень подробное заключение госпиталя и врачей, ранее лечивших его. Ей ничего не оставалось, как вынести следующее решение: «Подлежит переводу в центральную Россию».
Это решение пошло на утверждение командующего фронтом.
Врио командующего вызвал Койранского к себе и поставил прямой вопрос: чего он хочнт?
Койранский ответил: «Только демобилизации».
Начальник штаба фронта предложил ему перевод в один из городов: Актюбинск, Оренбург, Самару, Харьков. Койранский отказывался.
И тогда командующий вынес решение: «демобилизовать».
Это уже был март 1923 года.
По-своему довольный, Койранский приехал в Мерв к довольной и счастливой Марусе. Он понимал, что его уступка Марусе в очень важном деле определения дальнейших путей жизни была чрезвычайно легкомысленна и очень неумна, так как причины, руководившие Марусей, были эгоистичны и не считались с интересами других детей, всей семьи и особенно с интересами мужа.
Сделав уступку, Койранский хотел показать Марусе, что ее дети от первого мужа для него равно дороги, как и родные его дети. Он думал, что она оценит эту новую его жертву для укрепления их семьи и ее будущего. И не жалел, что так поступил, никогда не жалел, хотя ожидал больше от этого доброжелательного акта.
Но предстояло еще сдать должность в Ашхабаде, выдержать натиск непосредственных начальников, желавших ему только добра, прежде, чем получить увольнительные документы.
Действительно, в штабе войск области пытались всячески отговорить Койранского от демобилизации, приводили веские и неопровержимые доказательства, насколько для него важно продолжить службу в армии, которой он принес немало пользы и где заслужил признательность.
Ему дали прочитать телеграмму начальника Управления военно-учебных заведений о направлении командира с высшим образованием и с боевым опытом в Киевское Военное училище, которое будет выпускатьофицеров повышенной квалификации, для преподавания тактики.
Преподавательская работа всегда нравилась Койранскому. Он еще в Бузулуке вместе со своим помощником Сергачевым, учителем по профессии организовал среднюю школу для солдат и офицеров, желающих продлить свое образование, и сам преподавал в ней русский язык и русскую литературу. И теперь Койранский заколебался. Он специально поехал в Мерв, чтобы еще раз посоветоваться с Марусей. А она и слушать не хотела никаких доводов – только в Дмитров, где дети, больше никуда. И Койранский не сумел переубедить ее и настоять на своем, так как его интересы были ей чужды.
Вернувшись в Ашхабад, он решительно отказался от Киевского военного училища и своим упрямством поразил друзей и даже посторонних наблюдателей, понявших, что он сам себе враг. Они только пожимали плечами от невероятного упрямства комбрига.
Дождавшись некоторого улучшения здоровья, Койранский распродал мебель, а также все, что можно было продать, купил несколько мешков пшеничной муки, понемногу урюка, изюма, сушеной дыни и мешок риса и собрался в дальнюю дорогу, имея бесплатный вагон по литеру и огромный запас молодой энергии.
Желанье исполнялось: Койранские навсегда возвращаются в Россию.
Только преданная Койранским нянька Ефросинья Павловна не дождалась этого дня. Два месяца тому назад она умерла в Мервской городской больнице, заболев тяжелой формой дизентирии.
После ее похорон семья как-будто осиротела, так крепко вжилась она в семью, тяжело пережившую эту утрату.
С помощью полка Койранский погрузился в вагон, сдав большую часть вещей железной дороге для отправки по литеру же малой скоростью. И все же вещей, везомых с собой было много.
Хотя поезд отходил ночью, на вокзале проводить своего бывшего командира собралось много командного состава. Было приятно, что, несмотря на все инсинуации его недоброжелателей, Койранский пользуется большим уважением сослуживцев и его авторитет в их глазах нисколько не поколебался.
Распив заздравную «пиалу» крепкой кишмишовки (самогон из изюма), пожав всем крепко руки, под дружеские крики товарищей, Койранский с женой оставили Мерв (Мары), полк и военную службу.
В следующую ночь, около 23 часов, поезд был в Самарканде. Шел дождик. Дети спали. Вдруг какие-то люди с фонарями раскрыли двери товарного вагона Койранского и крикнули:
«Вагон неисправен! Он дальше не пойдет! Переселяйтесь, пока есть время!»
Койранские засуетились. Маруся стала будить и одевать детей, а Койранский – наскоро складывать и упаковывать постели.
Когда все было готово, вещи начали выносить из вагона. Тут подошли какие-то люди, предложили помощь. Койранский согласился. Он подавал вещи этим людям, чтобы те отнесли их от вагона на перрон. Разгрузившись, пересчитали вещи. Не хватало пяти тюков; стало очевидно, что «помощник» украли их.
Искать было некогда, хотя станционной милиции Койранский заявил о краже.
С помощью настоящих носильщиков едва-едва погрузились в один из общих товарных вагонов, где было так тесно, что ребятам пришлось спать сидя. Вещи были разбросаны кое-где по темному вагону, только утром их удалось собрать.
Когда поезд отходил от станции Самарканд, Койранскому, стоявшему в полуоткрытых дверях вагона, показалось смеющееся лицо Мупавьева, приложившего руку к матроской бескозырке, а еще раньше к вещам своего бывшего подчиненного.
А на следующий день оказалось, что вагон Койранского преспокойно следует в составе поезда, переполненный другими пассажирами.
Операция удалась Муравьеву на славу.
Ему удалось украсть все заготовленное на долгую дорогу продовольствие, детские игрушки, их платье и белье, ковры, среди которых были некоторые документы, в том числе университетский диплом Койранского.
В Ташкенте, на пересадке, его опять было прихватил приступ малярии, но короткий, закончившийся к моменту посадки, и Койранские, устроившись в европейском поезде, через неделю были в Москве.
29. Дмитров и хождение по мукам
Дмитров встретил своих старых знакомых недружелюбно.
В день приезда, 23 апреля, было холодно, еще лежал снег, правда понемногу таявший.
От такой погоды, сырой, ветренной, пасмурной Койранские уже отвыкли. Их никто не встречал и негде было остановиться.
Александр и его семья жили при Даниловской лесной школе, в 8 километрах от Дмитрова, а старушки Фуфаевой, в домике которой когда-то жили Койранские, уже не было в живых, да и домик ее был снесен за ветхостью. Пришлось расположиться в вокзале.
Решили так: Койранский через Жилищный отдел местного Совета будет добиваться немедленного предоставления жилья, как демобилизованному воину, а в Даниловское отправится дочь Лариса. Ей хотелось повидаться с отцом и братьями, и, кстати, мальчики узнают о приезде матери. Окунувшись в местную жизнь, Койранский всюду натыкался на недоброжилательство, если не сказать на враждебность.
В Жилотделе ему сразу отказали, узнав, что он брат заведующего лесной школы, кадета, даже чуть ли не контрика.
Койранский обратился к председателю Совета и объснил ему свое положение. На вопрос, «а чтож брат не поможет?» – Койранский рассказал о своих отношениях с ним.
Тогда председатель поведал ему, что Александра недавно судили в Народном суде за эксплуатацию труда родчиненных рабочих в личных целях и за отказ страховать домашнюю работницу, словом за нарушение советских законов о труде.
Койранскому стало ясно, почему его везде встречают с громогласным «нет». Он понял, в какую неблагоприятную обстановку попал: кому прийдет в голову расценивать его, как прямую противоположность брату?. Тем не менее, председатель Исполкома позвонил заву Жилотдела и предложил ему немедленно устроить Койранского на квартире, как демобилизованного командира.
Койранский снова у заведующего Жилотделом и снова неудача: заведующий предложил подождать до завтра с устройством на квартире.
Койранский скандалить не стал, раз нужно ждать.
Предстояло еще ночь провести на вокзале со всеми неудобствами и с риском простудить детей.
На другой день опять Жилотдел, опять настойчивые просьбы, опять отнекиванье и предложение подождать.
Тогда вежлтвость покинула Койранского, он закричал:
«Так вы встречаете демобилизованного воина, пять лет в рядах Красной Армии защищавшего советскую власть?!! Я буду жаловаться в Москву!»
И после этого, наконец, последовало распоряжение выписать ордер на флигель в частном домовладении Коротеева, на Рогачевской улице.
Вместе с Койранским осматривать этот флигель был послан агент Жилотдела, так как, очевидно, предполагалось, что «без боя» его не занять. Так оно и вышло. Хозяева, жившие в большом доме, рядом, никак не соглашались открыть пустовавший флигель и заявили, что они не пустят жильцов по ордеру Жилотдела, так как он не имеет права распоряжаться частными домами.
Койранский стал действовать решительно: он подошел к флигелю и, желая сорвать наружный висячий замок, с силой дернул за него и тут же отлетела скоба. Дверь была открыта.
«Так всегда я привык действовать с противниками Советской власти! Так будет и впредь! Понятно?» – вызывающе сказал он и вошел во флигель.
Это был домик-малютка, без прихожей, с русской печью по середине и с тесовыми перегородками между наружными стенами и печью, с некрашенными грязными полами, весь свой длинный век, вероятно, не знавшими воды, с провисшими на погнутых балках потолками, с неоклееными, черными стенами. Углы стен и печку украшали гирлянды паутины, а стекла окон, величиной 1×0,5 метра, были покрыты таким слоем грязи, что походили больше на ржавое железо, чем на стекло.
Новое жилье очень не понравилось Койранскому, но делать было нечего. Он прибил скобу двери первым попавшимся камнем, навесил захваченный представителем Жилотдела замок и пошел за семьей.
«Сколько будете платить?» – поинтересовался хозяин.
«По закону!» – отозвался Койранский.
«Да ведь это копейки!»
«Следовательно будете получать копейки, а не захотите, буду вносить в депозит Жилотдела в Сберкассе.»
«Эх, вы, грабители!»
«Эх, вы, кровососы!»
Такими любезностями, не предвещавшими ничего хорошего в дальнейшем закончились переговоры наймодателя с нанимателем.
«Вот так гражданская жизнь! Сейчас, в самом начале, и уже солоно приходится, а что дальше?!» – мысленно оценивал Койранский свое положение.
На вокзале Койранский уже нашел возвратившуюся от отца Ларису. Оказалось, что отец, несмотря на мокрую апрельскую погоду с глубокими лужами на дорогах, на наступившую уже темноту, на то, что до города, откуда дочь пришла, далеко, выгнал девочку вон, а мальчикам не позволил ни проводить сестру до города, ни пойти на свидание с матерью.
Крик Александра и громкий плач Ларисы и ее младших братьев услышали соседи по квартире, Никитины, глава семьи которых был преподавателем этой же лесной школы.
Они позвали Ларису к себе, накормили и устроили на ночь у себя. На другой день в сопровождении школьной кухарки Лариса вернулась к матери.
С этих пор не стало у девочки родного отца. До самой его смерти она не встречалась с ним.
«Зверь своего детеныша не покинет, а он прогнал девчонку в ночь в слякоть! Есть ли сердце у этого человека?!» – резюмировала рассказ кухарка школы.
«Бог ему судья!» – так отозвалась Маруся.
Гнев и возмущение Койранского были так сильны, что, связывая вещи он порвал, казалось, прочные веревки и ремни, а потом долго, вспоминал эту позорную, отвратительную выходку, каждый раз сжимал кулаки и дыхание спирало горло.
Устроившись с жильем, через два дня Койранский отправился, как его научили добрые люди, на биржу труда, чтобы получить соответствующую его образованию работу. Здесь он узнал, что биржа регистрирует и посылает на работу только членов профсоюза, что ему надо прежде вступить в профсоюз и посоветовали, по его специальности юриста, вступить в профсоюз государственных служащих.
Койранский обратился в этот профсоюз, но ему сказали, что в профсоюз принимаются уже работающие.
«Еще заковыка! Заколдованный круг! На работу нельзя без профсоюза, в профсоюз – без работы! Здорово! Я же из армии прибыл, значит, не мог быть ни членом профсоюза, ни на гражданской работе. Что же мне делать?!» – разволновался Койранский.
В ответ «защитники рабочего класса» только пожали плечами.
На следующий день он посетил Уездного Военного Комиссара, председателя Исполкома Совета и председателя Чрезвычайной Комиссии и всюду получил вежливое сочувствие и отказ в помощи.
После этого Койранский решил действовать помимо дмитровских чиновных организаций, биржи труда и профсоюзов. Он раздобыл в университете копию диплома и подал заявление в Народный Комиссариат Юстиции о приеме его на работу, как юриста, в Дмитрове или близ него.
Через две недели пришло назначение: в город Весьегонск, Тверской губернии, народным следователем.
Посмотрели с Марусей по карте, установили, что этот «медвежий угол» очень далеко от железной дороги и решили отказаться от этой почетной ссылки.
Поездка в Москву ничего не изменила, пришлось взять документы обратно.
После этих попыток устроиться на работу Койранский больше месяца ничего не предпринимал в этом направлении: очень уж противно было просить, когда имел бесспорное право требовать. Но… Но усталость от хождений по жалобам, нежеланье ввязываться в скандалы, без которых как он видел, ничего не добиться, повсеместная враждебность, когда к тому же, и фамилия так одиозна, наличие в кармане деньжишек, привезенных после ликвидации имущества в Мерве и предназначенных для обзаведения мебелью и другим в новой жизни, – все сдерживало и позволяло бездействовать.
«Правда, миллионы летели, как осенние листья, на питанье, обходившееся дорого, правда, и благоустраивать было нечего, так как флигель Коротеевых даже с большой натяжкой нельзя было назвать квартирой, правда, в багаже, идущем малой скоростью были и мука, и рис, и прочие лакомства, которые, на худой конец, могли заменить деньги, но… Но багажа не было, хотя уже месяц Койранские жили в Дмитрове.
А в багаже было не только продовольствие, были и детские кроватки, без которых дети, как, впрочеи, и взрослые, ночь проводили на полу, была одежда, было постельное белье и другое, так необходимое для жизни.
Койранский бегал на вокзал каждый день, багажа все не было.
Наконец, – радость: багаж пришел, но за него требовали уплатить не много – не мало, пять миллионов рублей, так как в первоначальном документе (бесплатный литер) вес оказался на девять пудов меньше, чем в действительности.
Отдать такие деньги, значило остаться без денег, при отсутствии заработка. Кроме того, Койранский не считал себя виновным в ошибке, так как литер был выписан в полку после взвешивания багажа, вес которого был указан товарной конторой станции Мерв.
Что делать? Надо ехать в Реввоенсовет Республики. Другого, более разумного, выхода не было. И Койранский поехал.
Его направили к начальнику отдела перевозок. Тут не сказали «нет». Тут оперативно помогли: написали военному коменданту города Москвы о выдаче Койранскому литера на 9 пудов от станции Мерв, Средне-Азиатской железной дороги, до станции Дмитров, Северной железной дороги.
Вещи были получены, наконец. Однако, с поправкой железнодорожных воров: во всех мешках муки было отсыпано по 35–40 килограмм, а вместо муки были заложены рельсы, весом гораздо большем, чем отсыпанная мука. Эта благодарность воров за муку стоила государству литера, полученного Койранским в Москве.
Жалоба железной дорогой принята не была, так как при получении багажа не был составлен акт о воровской проделке железнодорожников, не сообщивших железной дороге или владельцу груза об этой ловкой проделке.
Койранский махнул рукой.
Но деньги таяли, а работы не было. Теперь дорога в Реввоенсовет Койранскому была знакома, но надо было вновь пройти все мытарства от биржи до профсоюза, чтобы получить официальные отказы на бумаге.
На этот раз Койранский – в командном управлении Реввоенсовета. Прочитав заявление Койранского и приложенные к нему отказы, начальник управления возмутился. Он попросил Койранского немного подождать и через 15 минут буквально протянул ему две бумажки аналогичного содержания, короткого, но энергичного, за подписью члена Реввоенсовета Республики:
«Немедленно, вне всякой очереди, предоставить работу демобилизованному комбригу Койранскому. Об исполнении в недельный срок донести».
Одна бумажка была адресована секретарю уездного комитета ВКП(б), другая – уездному военному комиссару.
Пожелав Койранскому всего хорошего, начальник командного управления на вопросительный взгляд Койранского добавил:
«Пусть только попробуют!»
Но в Дмтрове, конечно, не пробовали. Койранский вручил бумаги Реввоенсовета адресатам и через день был принят в профсоюз, даже заочно, с последующим заполнением заявления, анкеты и прочих привесов, и в тот же день ему на квартиру принесли из биржи труда направление на работу.
30. Гражданская работа
Какая это была работа? Прочитав направление, Койранский поразился: он будет счетоводом городского общества потребителей с окладом 25 рудлей в месяц.
Что это, насмешка? Или испытание?
Формально распоряжение Реввоенсовета выполнено. Если откажется, уже никто не поможет поступить на работу.
Но 25 рублей…… когда 100 рублей на базаре стоит мешок картошки, 30 рублей возик дров! И семья из пяти человек!



