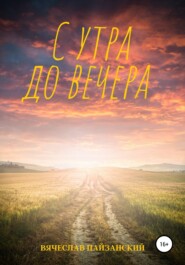 Полная версия
Полная версияС утра до вечера
«Наши!» – единогласно признали эти люди. Оказалось, они живут здесь же, в вагонах, стоящих в тупике.
О мятеже они знали и рассказали, что разъезд «Лес» занят бунтовщиками. По их словам, мятежников не больше полсотни. Пьют немилосердно, грабят жителей в поселке, уже вызвали озлобление против себя.
Оказалось, что из Самары на помощь Бузулуку пока помощь не проходила.
Что в Бузулуке, они сказать не могли.
Высушив портянки, люди вздремнули у костра, так как лесорубы ушли в вагончик.
А под утро Койранский повел отряд по шпалам на разъезд «Лес».
Поездов на разъезде не было, паровозов и вагонов тоже.
Испуганный дежурный показал, где спали сапожковцы. Их было 18 человек. Никакой охраны у них не было. Их обезоружили и прикладами погнали в сторону станции «Колтубанка», лошадей же их стреножили и оставили пастись возле разъезда.
Эти бывшие красноармейцы были послушны, как овцы, и трусливы, как зайцы. При этом они еще были сильно под хмелем. Они отказались идти в Бузулук к Сапожкову и просили называть их «пленными». Они разляглись в траве, ожидая распоряжений пленившего их отряда, без всякой охраны с его стороны.
В полдень звонили из Самары и других станций, ближе к разъезду. Дежурный телеграфист вызвал Койранского. Ему сказали, что из Самары на Бузулук выехал эшелоном специальный отряд из всех родов войск под командованием Шпильмана.
Койранский назвался командиром разведотряда запасного полка, доложил о состоянии полка, в 25 километрах от Бузулука.
Вечером пришел поезд с разведротой и с ней прибыл сам Шпильман. Рота высадилась на разъезде и по шпалам, разведывая в ширину не больше километра по обе стороны от железной дороги, двинулась к Колтубанке. В трех верстах от этой станции разведроту встретил отряд Койранского.
Шпильман подробно расспросил Койранского обо всем и послал его отряд в авангарде разведроты, в качестве головного отряда.
Но скоро движение пришлось прекратить: навстречу двигались спешанные эскадроны Сапожкова, с легкой артиллерией.
Начался бой за станцию Колтубанка.
Отряд Койранского оказался между двух огней. Он залег под откосами железнодорожного полотна, а под темнотой прикрытием ему удалось войти в пристанционный поселок Колтубанка. Оттуда его огонь потеснил фланг сапожковцев и даже заставил какие-то его соединения оторваться от наступавших цепей. К ночи бой затих. Койранский тоже прекратил огонь, не желая себя демаскировать.
С рассветом началась стрельба с обеих сторон. К разведроте подошли главные силы Шпильмана с артиллерией и ее огонь понудил сапожковцев к отходу в сторону Бузулука.
Шпильман вызвал Койранского и приказал ему разведать, где остановились кавалерийские части противника, так как он опасался, что они, возможно, нападут на его отряд с тыла и с флангов.
Койранский своим маленьким отрядом быстро обошел лес на ширине до трез километров, но противника не обнаружил, что позволило Шпильману двинуться к Бузулуку. Бегство войск Сапожкова было так стремительно, что, едва увидев цепи Шпильмана, они укрылись в городе. Кавалерийский эскадрон Шпильмана ворвался на плечах сапожковцев в город.
Шпильман приказал Койранскому отдыхать в Колтубанке и здесь ожидать его распоряжений.
Отряд Койранского расположился на траве между двумя дачами.
Все, кроме Койранского, спали. Вдруг его кто-то назвал по имени. Он оглянулся. У ограды одной из дач стояла Вера Дудина. В ее глазах сияла радость. Он тотчас же подошел, перепрыгнув через ограду, поцеловал ее руки.
«Я так боялась за вас. Вчера Афанасьев в Бузулуке рассказывал о вас всякие небылицы. Он высказал предположение, что вы будете скрываться в лесу, недалеко от Колтубанки, и я утром пришла сюда. Здесь на даче моя тетка живет. Меня задержали было какие-то солдаты, но отпустили. Говорят, ночью Сапожков ушел из Бузулука. Как хорошо, что вы целы и невредимы. Я так боялась за вас!»
Вера дала Койранскому чистые носовые платки, перешила воротничок на гимнастерке, выстиранный, высушенный и выглаженный в течение 20 минут.
Шпильман не вызывал Койранского, и весь день онт провел с Верой, а вечером посадил ее в вагон с отбывавшей в Бузулук ротой Шпильмана, так как пассажирское сообщение еще не возобновилось.
Что в Бузулуке? Почему Шпильман молчит? Над этими вопросами ломал Койранский вся ночь голову. Наконец, он решил, что Шпильман, очевидно, в пылу преследования мятежников, забыл о нем и об его отряде. Он подождал до 12 часов следующего дня и, уверившись в истине своих предположений, повел отряд в город, где распустил людей по домам и сам пошел доиой.
Как он был встречен! Маруся плакала и поминутно обнимала его, как бы желая удостовериться, что это, действительно, он. Соседи обнимали и целовали его. Детишки не отходили от отца, держа его то за руки, то за брюки, то обнимая за шею. В их глазенках светилась такая преданная любовь к отцу, что на его глаза то и дело навертывались слезы. И под этим незабываемым впечатлением, оставшись наедине с Марусей, он дал ей честное слово, что их семья не будет разбита, что свою любовь к Дудиной ради детей он вырвет из своего сердца.
«С тобой и детьми до конца, чтобы ни случилось!»
23. Синяки и шишки
Сапожковская рать, ограбив население Бузулука, опорожнив продовольственные и вещевые воинские склады, не задерживаясь, спешно отходила к Оренбургу, стремясь оторваться от нажима Шпильмана, кавалерия которого состояла только из двух эскадронов.
Но из Оренбурга навстречу Сапожкову вышли курсанты кавалерийской и артиллерийской школ.
Это заставило Сапожкова повернуть на юг, к Уральску. Он рассчитывал получить здесь поддержку уральского казачества. Но в Уральске был сильный гарнизон, укомплектованный пролетариями центральных губерний Республики. Части уральского гарнизона, а также части ВЧК из Пугачева и из других пунктов Заволжья двинулись в уральскую степь, и Сапожков оказался окруженным.
После короткого и совершенно безнадежного боя дивизия Сапожкова сдалась, была обезоружена и отправлена в Оренбург. С дивизией был и ее командир Сапожков.
Месяц спустя, когда его везли в Самару, где было назначено судебное заседание Революционного Военного Трибунала над сапожковцами, злополучный бунтовщик пытался бежать. Он на ходу поезда, выбив окно, прыгнул из вагона, но убежать не смог: поезд был остановлен и «лихач» застрелен преследователями.
Личный состав запасного полка стал медленно собираться и являться в штаб полка. Там уже был Койранский, были командиры батальонов и многих рот. Через два дня появилось и начальство: командир полка и три его помощника. Не было только комиссара полка и комиссаров батальонов.
Гражданская власть стала функционировать немедленно после бегства сапожковцев.
Командир полка проявил необычайную энергию: он назначил, ввиду того, что город еще был на военном положении, своего помощника Зубкова комендантом города, а себя – начальником его обороны.
Но комендант и начальник обороны только одни сутки выполняли свои «ответственные» должности.
Через сутки, совершенно неожиданно, приехала комиссия штаба Приволжского военного округа и Самарского губернского Совдепа. Комиссию возглавлял заместитель председателя ГубЧК, Дэль, тот самый, кто сажал Койранского в Саранскую тюрьму и, освобождая, выразил ему доверие Советской власти.
Историю разложения полка и бездействия командования комиссия узнала из десятков и сотен объективных рассказов очевидцев, от штаба Шпильмана, от местной гражданской власти.
Комиссия отменила военное положение в городе, отстранила до особого распоряжения от командования полком Аккера, а Зубкова от ненужного уже коменданства и назначила до решения штаба округа временно исполняющим должность командира полка Мурана.
Койранскому комиссия поручила провести полное дознание, которым выявить виновных в разложении полка лиц, предоставив ему право опрашивать всех, кого он найдет нужным, и арестовывать, кто может скрытьсяя от суда, или мешать производству дознания.
Перед отъездом комиссии из Бузулука Койранский был вызван в УКОМ партии большевиков, где ему был выдан соответствующий мандат от имени штаба округа и губисполкома.
Мандат устанавливал, что Бузулукская Уездная Чрезвычайная Комиссия, по просьбе Койранского, обязана оказывать ему всемерное содействие. Задача и ответственность за ее правильное выполнение были огромны. Это понимал Койранский.
Дэль, прощаясь, обратил внимание Койранского на то доверие, которое заслуженно оказывает ему Советская власть, ему, беспартийному бывшему офицеру.
И это было понятно Койранскому и льстило его самолюбию.
Когда в полку стала известна новая роль Койранского, перепутались все карты: одни стали избегать встречи с ним, другие нашептывать ему о тех, кто, как и они «праздновали труса», некоторые представляли десятки оправданий еще до опроса их Койранским, большинство заискивали и даже раболепствовали.
Так, например, Аккер как-то пришел в кабинет Койранского и завел такой разговор:
«Надеюсь, вы меня ни в чем не можете обвинить. Я все время был лояльным. Но обстоятельства были такие, что ……» и понес все, что, по его мнению, могло отвести от него вину.
Койранский долго терпеливо слушал, не прерывая бывшего командира полка. А когда тот закончил, ответил ему:
«Ложись, гусь, на сковородку, да поджаривайся!»
Затем встал, показав этим, что разговор окончен. Впрочем, Аккер был позднее опрошен и его показания были тщательно записаны Койранским и проверены самим бывшим полковником.
Дознание должно было нарисовать ход обороны города, указать причины поражения его защитников, дать характеристику позиций оборонявших подразделений и, конечно, приложить схемы их, для чего пришлось делать съемку и на месте уточнять все.
Прежде всего Койранский приступил к этой стороне дознания, считая ее наиболее трудной.
Коранский арестовал только двоих: Ремарчука, скрывавшегося в роте, и Афанасьева, бежавшего в деревню, к молоканам.
О разлагающем влиянии секретаря полковой партийной ячейки Ремарчука говорили показания всех большевиков полка, а о действиях Афанасьева – те легковерные, что ушли с ним от первого привала отряда Койранского.
Он повел людей открыто и сдался первому же патрулю сапожковцев. В городе он под охраной кавалеристов привел людей к тюрьме и здесь сдал их, как пленных.
Выяснилось также, что он всячески поносил Койранского, называл изменником, продавшимся «жидам и большевикам».
Маруся также рассказывала, что он предлагал ей сожительствовать с ним и нахально вел себя в квартире Койранского, так что был насильно выдворен соседом-учителем и вестовым штаба Попковым.
Суд над виновными состоялся в Самаре. Ремарчук был приговорен к расстрелу, Афанасьев – к 6 годам, а Ягупов – к 5 лет тюремного заключения. Кривенко, комиссар 1-го батальона, получил строгий выговор, как и по партийной линии, а бывший командир полка Аккер уволен с военной службы, как не пользующийся доверием Республики.
Больше никто из полковых людей не пострадал, хотя судили по обвинительному заключению Койранского 13 человек.
Естественно, что во время производства дознания, т. е. около месяца, Койранский был очень занят, встречался с Дудиной редко и случайно, и не мог объяснить свое намерение отказаться от счастья с ней и посвятить свою жизнь детям и их воспитанию.
Дудина, не зная этого решения Койранского, ежедневно слала ему записки, напоминавшие о ее больших чувствах, просила свиданий.
Записки она пересылала через вестового штаба Попкова, а тот передавал их Марусе.
Ничего не говоря мужу, Маруся читала и уничтожала эти вещественные доказательства верности Койранского своему слову.
24. В Среднюю Азию!
Слух о возможной передислокации полка в Среднюю Азию ходил в полку еще до сапожковщины и был причиной нервозности некоторых командиров и вспышки дезертирства бывших колчаковцев. Но официально этот слух не подтверждался, и понемногу все успокоилось.
После сапожковщины, когда кадры рядового состава полка были далеки от штатных, этот слух снова появился в полку.
Привез его комиссар полка Мирошкин, возвратившийся из учебной командировки.
Но Койранскому и Мурану, который по неопытности во многом зависел от адъютанта полка и потому стал дружить с ним, казалось, что неукомплектованный полк отправлять в Туркестан нельзя, так как этот край был еще на военном положении и существовал еще Туркестантский фронт.
Но события подтвердили правильность слуха. Сначала началось усиленно прибывать в полк пополнение отдельными небольшими группами, потом в полк был влит батальон Особого назначения, прибывший из Сызрани. И полку было приказано готовиться к отъезду в Туркестан.
Для Койранского это значило не только привести к готовности полк, но и свои личные дела.
Маруся явно радовалась отъезду. А Койранский был невесел: свое чувство он должен был собственными руками душить и причинять боль не только себе самому, но и любимой девушке, а это вдвойне было тяжелее. Но решение его оставалось неизменным. Он обо всем написал Вере в большом письме-исповеди и просил ее ответить, прощает ли она ту боль, какую своим решением приносит ей.
Ответа нет пять дней, неделю, десять дней. Полк готовится к отъезду, просматриваются списки вольнонаемных, согласных ехать с полком.
В списках – Дудина Вера. Койранский вычеркнул ее фамилию.
Осталось четыре дня до отъезда.
И вдруг он находит на столе в спальне ее письмо, уже распечатанное и, вероятно, прочитанное.
Тогда-то Койранский догадался, кто получал письма Веры. Сердце его сжималось от жалости к ней, от жестокости жены.
И он пошел к ней, к Вере, домой.
В присутствии матери и старшей сестры Вера упала на грудь Койранского и неутешно рыдала.
Мать и сестра вышли, и молодые люди несколько успокоились.
Койранский объяснил, почему не приходил, почему не мог оставить ее в списках отъезжающих, почему не может поступить иначе, не связывая свою судьбу с ее судьбою: взвесив все, он понял, что детям, для их счастья, нужны и мать и отец.
Он просил прощенья у обездоленной девушки и клялся, что любит ее даже больше, чем раньше.
Вера внимательно слушала Койранского. Потом сказала:
«Я верю вам, во всем верю. И понимаю вас. Но мне так тяжело, как будто передо мною смерть, окончание жизни. Вы будете мне писать, останетесь моим другом?»
Койранский не хотел ни одним словом обманывать любимую.
«Нет, Вера, нет! Я думаю, что этого не надо. Это вернет нас к нашей близости. Но я даю вам честное слово, что любить вас не перестану. И если это будет когда-нибудь можно, я приеду за вами и увезу к себе. Давайте, назначим срок, по истечении которого вы сможете считать себя свободной. Хорошо? Ну, пять лет, например», так рассуждал Койранский, желая оставить у Веры хоть какую-нибудь надежду, в которую, однако, сам не верил.
Вера возразила:
«Не надо никакого срока. Вся жизнь – срок для нас обоих. Я никогда и никого больше любить не буду, только вас всю жизнь буду любить и только вам хочу принадлежать».
Они вышли на улицу, но, несмотря на темноту, его разыскал вестовой штаба и передал приказание командира полка сейчас же прибыть на прямой провод для переговоров с начальником штаба округа.
Койранский и Дудина условились, что встретятся накануне отъезда вечером, за городом. Там и простятся.
В этот день у Койранского было много работы, но он решил, несмотря ни на что, свидеться с Верой.
Он позвонил домой, что не придет обедать.
В 19 часов Койранский зашел за Верой. Они пошли за город и, пройдя большое село Елшанку, сели на берегу реки Самарки.
Надвинулась ночь. Село окутал густой туман. Река дымилась и изредка блестела, когда сквозь туман выглядывала луна.
Вера припала к груди Койранского и горько-горько плакала.
Потом, повинуясь какому-то параксизму, стала заклинать его взять ее в Туркестан, чтоб хоть издали иногда видеть его. Молила, убеждала, требовала.
Потом говорила, что хочет от него ребенка, умоляла его, страстно целовала.
Потом опять плакала неутешно, то тихо, то громко, оплакивая свое несбывшееся счастье.
Койранский молчал, лишь изредка бросал отрицательные реплики. Невозможно передать, как он страдал. Он страдал и за себя и за Веру. Такого горя, такого переживания ему никогда больше не пришлось пережить и, вероятно, редко кто смог бы перенести, не поддавшись ему. Он держал Веру в своих обътиях, он страстно ее любил, но очень хорошо понимал, что не имеет права, воспользовавшись ее слабостью, причинить ей дополнительное горе. Он целовал ее мокрые глаза, вытирал эти слезы и сам плакал. Его летняя гимнастерка была мокрой насквозь, его губы были искусаны, руки все сильнее сжимали свою любовь, свою покидаемую вместе с ней молодость.
Туман стал настолько густ и непроницаем, что стало трудно видеть лицо любимой. Казалось, окутанные этой туманной мглой, они погружаются в небытие. Они потеряли ощущение времени, они видели только разлуку, разлуку, равносильную смерти.
Где-то недалеко закричали журавли. И это вернуло Койранского к сознанию. Это вселило в него неожиданную твердость.
Чтобы прервать это тягостное прощание, Койранский, преодолев немалое сопротивление Веры, повел ее в город.
Осторожно, медленно пробираясь через пелену ужасного тумана, они брели, то и дело сбиваясь с дороги, и часто возвращаясь на то место, где перед этим были. Как бы сама природа протестовала против этой жестокой разлуки, опустила на них густейший, ранее никогда ими невиденный по силе туман, чтобы закрыть их от несчастья разлуки, чтобы никто не мог видеть их страданий.
Но наступило уже утро, надо было поспешить в город, так как погрузка полка в вагоны начиналась с семи часов утра. Это был единственный аргумент Койранского и для себя и для Веры, оправдывающий приближение конца этого последнего свидания.
Только в пять часов утра они были у дома Веры. Она не хотела уходить, она цеплялась за Койранского, как ребенок цепляется за юбку уходящей матери.
Койранский позвонил у двери. Мать открыла дверь и Койранский внес почти бесчувственную девушку в дом, положил на диване в столовой, крепко поцеловал и быстро вышел.
Трудно, даже невозможно описать, что творилось в душе Койранского. Он выдержал это испытание, но горе Веры не давало ему покоя.
В течение дня он несколько раз порывался идти к Дудиной, но, только благодаря занятости, не сделал этого.
Он работал и тосковал, тосковал и работал.
Полк погрузился в четырех эшелонах. Вечером Койранский погрузил в отдельном товарном вагоне свою семью.
Койранский, командир полка с помощниками и штаб полка ехали в первом эшелоне, который должен был отойти от станции Бузулук в 24 часа. За час до отхода эшелон был подан к вокзалу.
У освещенных окон вокзала Койранский вдруг увидел Веру. Она глазами искала его, думая, вероятно, что он в единственном классном вагоне командования.
В ту же минуту Койранского позвали к командиру. За десять минут до отправления Койранский освободился и пошел к Вере.
Но на прежнем месте ее уже не оказалось.
Поискав ее по вокзалу, Койранский вошел в штабной вагон, где ему предстояло приготовить все донесения о погрузке и отправке полка.
Тронулся поезд. Койранский стоял в дверях вагона и вдруг у ног своих услышал душу раздирающий крик: «Вячеслав!»
И он увидел бегущую за вагоном Веру. Он бросил ей свой носовой платок, в котором была завязана записка:
«Прощай навсегда, мое счастье, моя любимая, моя единственная радость! Прости меня за твое горе, которым ты избавила от горя маленькие сердечки моих детей. Спасибо тебе за твою огромную жертву! Всегда все думы о тебе, всегда моя душа с тобой! Вяч.»
Койранский видел, как Вера подняла платок и, целуя его, спрятала в нем свое горе.
И он не выдержал этого последнего напряжения: рыданья вырвались из его груди.
Дежурный писарь понимал все. Он отошел в другой конец вагона, не мешая адъютанту выплакаться.
В голове Койранского мелькали разные думы: о несправедливой судьбе, лишившей его права любить, о той, кто его лишил этого права, о будущей беспросветности; протестующие и злобные, гневные и бессильные.
Он понимал, что он потерял, понимал, что потерянного не вернуть уже никогда. Он знал, что с этого времени в нем не будет главного: сердца. Разве знала это, разве понимала это его жена?
Эшелоны двигались не очень быстро. На больших остановках все четыре эшелона встречались.
В Оренбурге должны были долго стоять, ждать прихода других эшелонов полка. Командир полка Муран уговорил Койранского и его помощника Головчиц проехать верхами в город и осмотреть его.
День был очень ветренный. Застоявшиеся в вагоне лошади сразу взяли в карьер. Огромные тучи песка, поднимаемые ветром, свистели в ушах, насыпались в рот и нос, хлестали по лицу, по рукам и по ногам.
Город от станции отстоял далеко: не меньше шести километров нужно было проехать степью, да по городу, где ветер был лишь немного слабее, где песка было столько же, как и в поле, прогарцевали три часа.
Утомленный днями подготовки к отъезду, тяжелыми переживаниями, сопровожавшими отъезд и расставаньем с Верой, измученный скачкой и песчаной вьюгой, Койранский не выдержал. Через два дня он заболел, поднялась высокая температура и опулехообразная краснота поползла от шеи и ушей ко лбу, к волосам, к вискам, к глазам.
Врачи определили рожистое воспаление.
Койранский болел в своем семейном вагоне, ставшем карантином, так как инфекционная болезнь требовала оставить Койранского в каком-нибудь госпитале по пути, но командир полка и главный врач решили везти больного с собой.
В Ташкенте Койранский подвергся осмотру специальной военно-врачебной комиссии штаба фронта, но к этому времени болезнь уже почти закончилась и Койранскому разрешили ехать с полком дальше.
В Ташкенте же узнали, что полк будет разгружаться в городе Полторацке (нынешний Ашхабад), в столице теперешней Туркмении.
В жаркий сентябрьский день приехали в Полторацк.
Три дня жили в вагонах, пока квартирьеры не приготовили квартир для помещения подразделений полка и командного состава.
Койранский с семьей поселился на Артиллерийской улице, в квартире бежавшего за границу белого офицера, бросившего всю обстановку, библиотеку, даже несколько картин, писанных дочерью бежавшего.
Вид из окон квартиры был чудесный: горы Копет-Даг в зелено-коричневом наряде, с белой снежной шапкой, которая иногда закрывалась низкими облаками; иногда горы как будто курились – это дождь поливал их зеленые склоны.
Но до города серые облака и дождь не доходили: в нем было жарко, иногда душно.
Со двора квартиру окружали деревянные веранды, с верху до низа обвитые виноградом, с обтльными совершенно зрелыми ягодами, часть которых даже перезрела.
Полк расположился в полуразрушенных от времени царских казармах. В них было много скорпионов, фаланг и тарантулов. Укусы этих дерзких членистоногих стали обычными, хотя и отвлекали внимание медицинского персонала полка от профилактических мероприятий против свирепствующей в то время года малярией.
Полк все еще по названию оставался запасным полком, но уже не 2-й армии, а Туркестанского фронта, которым в то время командовал М. В. Фрунзе.
Перемена обстановки не очень сказалась на душевном состоянии Койранского. Он остро переживал еще свое горе, душа болела и злобилась на жену, которая не могла и не хотела понять, что с мужем, подсмеивалась над его несчастьем и требовала внимания и ласк. А он душевно отдалился от нее, оттталкиваемый ее непониманием и насмешками.
25. Борьба с басмачеством
Это было время, когда только что Туркестан и его народы были освобождены от властвования белогвардейцев и англичан, войска которых были разбиты, и сильным ударом Красной Армии выброшены в Каспийское море у Красноводска: они нашли себе убежище в белом Азербайджане.
Он тогда еще не был освобожден от муссаватистов, этих национал-буржуазных прихвостней английских капиталистов, на штыках которых они и держались, заливая кровью рабочих и крестьян эту несчастную землю. А незадолго до приезда полка в Туркестан, народная революция смела власть хивинского хана, бухарского эмира, баев (помещиков и кулаков) и изуверского духовенства.
Установившаяся повсеместно Советская власть еще была слаба, но крепла изо дня в день в суровой классовой борьбе с баями и организуемыми ими вооруженными бандами (басмачами).
Тогда власть опиралась на очень незначительную часть дехкан (крестьян) – бедняков и на мощь Красной Армии.
Большинство дехкан-бедняков и середняков не понимали еще происшедших революционных событий и, подстрекаемые баями и духовенством, враждебно относились к Советской власти и к Красной Армии.



