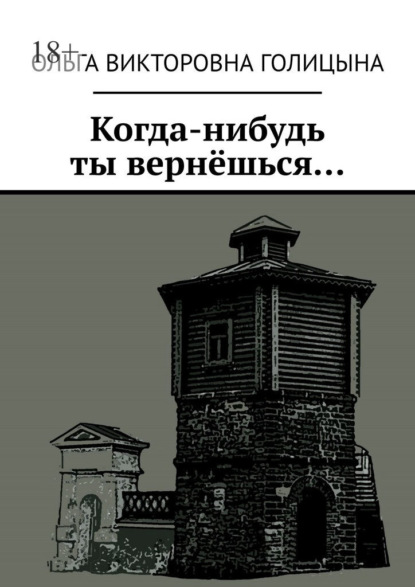
Полная версия:
Когда-нибудь ты вернёшься…
…«Ну, Сашенция, попробуй только не выздороветь». «Сашенция…» Так называл Сашу только Митя, но это был Костик. Он приподнял Сашину голову и осторожно поднёс к её губам чашку. «Пей, это бульон!» Саша сделала несколько глотков, удивилась: «Откуда курица?» Костя ловко вытер Сашино лицо влажным полотенцем, довольным голосом проговорил: «Откуда, откуда… Господа есаул Плетнёв и поручик Станкевич устроили охоту! Представляешь, из карабина стреляли по зайцам!
– Костик, а мы когда поедем?
– Когда-нибудь поедем… – неопределённо пожал плечами Покровский.
***
Они всё-таки поехали. Саша, пролежавшая большее время в беспамятстве, не знала, что стоило людям, запертым в снежном плену, освободить путь от развалившихся вагонов. И каждый день ожидали новой перестрелки. На крышах уцелевших вагонов дежурили казаки, и пулемёты стояли готовые в любой миг закашляться неистовым стуком.
– Девочка моя, Сашенька! – в мамином голосе перемешались слёзы и радость. – Едем! Сейчас всё будет хорошо. И ты будешь поправляться! Даст Бог, до Иркутска доедем, а там уж совсем недалеко будет.
Но до Иркутска надо было миновать полустанки и станции забитые составами, для которых не было паровозов, не было угля, не было воды. Эшелоны с чешскими легионерами, растянувшиеся на сотни километров от Красноярска до Иркутска, торопились покинуть разбушевавшуюся Россию через Сибирь, направляясь во Владивосток. Чехи перекрывали пути своими эшелонами даже санитарным составам.
Об этом с тревогой говорили Станкевич, Костя и Сашин спаситель есаул Плетнёв. Опять почти сутки их вагоны стояли, загнанные в тупик на какой-то станции.
– Господа, я на разведку, – застёгивая бекешу сказал Плетнёв. – Надо же знать, куда нас завезли.
– Я, пожалуй, тоже пройдусь с есаулом, – вскочил Костик со своего места. – А вы, Станкевич, с нами?
– Куда же я без вас, – усмехнулся Станкевич. – Или вы без меня? Дайте-ка, Софья Викентьевна, чайник, может, воды удастся раздобыть.
Степан Иванович, Софья и Саша тоже решили немного пройтись вдоль вагонов, чтобы подышать морозным воздухом. А день был хорош, и зимнее солнце сияло на чистом небе, и снег скрипел под каждым шагом.
– Благодать-то какая! – прикрыла глаза Софья. – Кто же это придумал – отобрать у людей право просто жить и дышать!
Степан Иванович с тревогой посмотрел на жену:
– Сонюшка, голубчик, ты держись! Всё когда-нибудь проходит, пройдёт и это.
– Да-да, только бы дожить до этого светлого дня, – печально кивнула головой Софья.
– Что-то наши три богатыря задерживаются, – Саша, закрываясь ладонью от яркого солнца, беспокойно всматривалась вдаль.
– Как ты их назвала, три богатыря? – засмеялся Степан Иванович. – Сонюшка, ты слышишь – три богатыря! Остроумно! Илья Муромец – это разумеется Плетнёв, он же Илья! Добрыня Никитич – наш Станкевич. Ну а уж Алёша Попович – поповский сын Костя Покровский! Спасители земли русской!
– Да, остроумно, – через силу улыбнулась Софья. – А вон, кстати, и Добрыня наш с чайником бежит. Только почему-то один…
– Зайдите, пожалуйста, в вагон, кое-что произошло, – на ходу бросил Станкевич. – Мы в Нижнеудинске, – через силу проговорил он. Налил себе воды в чашку, залпом выпил и продолжил. – Мы в Нижнеудинске, и до Иркутска было бы рукой подать, если бы пути были свободны, и локомотив нам дали, и уголь засыпали. То есть, если бы чехи всё это не забирали. Они арестовали Колчака! Мы шли мимо его эшелона и видели вагон Адмирала с флагами Чехии, Франции, Польши и кого-то ещё из наших так называемых друзей. Якобы он находится под охраной дружественных государств. Мы попытались подойти поближе к вагону, но на нас тут же были наставлены винтовки. Мы видели Адмирала – он стоял у окна. Мы отдали ему честь, и он нам ответил… А потом нас оттеснили от вагона. – Станкевич замолчал, молчали все: известие оглушило. – Но это не всё, – продолжил, кашлянув, Станкевич. – Колчак в своём эшелоне вёз золотой запас России… Судьба русского золота становится трагичной, его попросту разворуют, судьба Адмирала…
Он не договорил, молчали все.
– Есаул с Покровским решили разузнать что-нибудь ещё, подождём, какие вести принесут… – нарушил тишину Станкевич.
Так они сидели, не замечая времени, пока не раздался щелчок, после которого вагон дрогнул и тихо-тихо поехал. «Что же это? – забеспокоилась Софья. – Мы едем? А Илья Семёнович с Костиком? Боже мой, они же нас не найдут!» Вагон ехал всё быстрее, и впервые не было радости от внезапного движения, мучило бессилие от невозможности что-нибудь изменить. Оставалось надеяться, что Плетнёв и Костик объявятся в Иркутске, где, словно в огромной воронке, собирались эшелоны с беженцами, санитарные составы, военные эшелоны с казачьими войсками Семёнова, войсками Колчака, военными училищами. И невероятным казалось, что всё это людское месиво когда-нибудь успокоится. От Иркутска впереди был долгий путь с неизведанным концом.
Глава вторая
«Милый город, строг и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской ты рукой»…
А. Несмелов
«Стихи о Харбине»
Жестокой зимой 1920 года тысячи беженцев добирались до Хабаровска, Читы, Владивостока, оставляя за собой в снегах Сибирского Ледяного пути умерших от ран, голода, морозов, тифа. Эшелон, в котором ехали Мальцевы, миновав Российскую границу, двинулся в Харбин. Лишь качнулся на прощание хобот станционной водокачки, отрезая от прошлого, и никто не мог ответить на тоскливый вопрос: «Что же дальше-то будет?»
По прибытии беженцы и сумевшие выжить раненые разместились во временном жилье. «О, Господи!» – вздохнула Софья, оглядев длинное барачное помещение с двумя рядами двухэтажных нар вдоль стен. Их стали спешно заполнять, кое-где отгораживаясь вывешенными простынями.
– Сонюшка, мы с поручиком уходим, а вам с Сашей придётся здесь побыть какое-то время одним, – Степан Иванович замолчал, увидев ужас в глазах Софьи. – Сонюшка, ты не тревожься, мы постараемся все дела быстро сделать. Надо раненых как-то определить да и жильё снять поскорее, да?
Софья замотала головой, ладонями вытирая слёзы:
– Ты забыл, что Костик и Илья Семёнович вот так же ушли, и мы их потеряли, потеряли навсегда! Я больше не могу терять, нас слишком мало осталось…
Станкевич, сидевший тут же, поднял голову: «Степан Иванович, вы идите, я останусь, так будет надёжнее, мало ли что…» Мальцев благодарно пожал ему руку и быстро пошёл по проходу между нарами.
Время словно остановилось, и ожидание было непереносимым от тревожных мыслей. Отвлеклись немного, когда Станкевич принёс миски с горячим супом, за которым выстроилась очередь из беженцев. От давно утраченного ощущения сытости и тепла разморило, и сон помог прогнать тревогу. Саша и Софья крепко спали, когда вернулся Степан Иванович.
«Ну, кажется, всё хорошо складывается, – зашептал он Станкевичу, боясь разбудить их. – Я своего коллегу нашёл! Служили вместе в лазарете в японскую войну. После войны он уехал в Харбин, и поначалу мы с Рождеством друг друга поздравляли да с Днём ангела, а потом как-то всё заботы, времени вечно не доставало, и не то, чтобы забыли друг о друге, помнили, конечно… Как забыть, что вместе вынесли, но уж слишком далеко он жил, на другом конце света. А теперь вот нас сюда, за тридевять земель, судьба забросила. Ну, утро вечера мудренее, а потому давайте-ка поспим, и поутру все вместе двинемся к Иваницкому, коллеге моему. Да-да, не возражайте, вы тоже званы. Вместе подумаем о жилье, с этим здесь трудно, да и работу найти надо».
Едва рассвело, простившись со своими спутниками по гибельному пути, Мальцевы и Станкевич отправились к Иваницкому Кириллу Антоновичу. Как их встретят в незнакомом доме чужие люди, и что будет дальше – это было уже несущественно. Добрались, выжили, всё наладится… Так думала Софья, гоня прочь тревогу. «Ой! – удивлённо вскрикнула Саша, – вывески на русском языке! И дома совсем не китайские! И церкви!»
Пролётка двигалась по широкой улице, и, несмотря на утренний час, она не была пустынной. Проехал трамвай, задержался на перекрёстке автомобиль. Шли по своим делам горожане, но необычным был бегущий человек, который вёз коляску с сидевшей в ней дамой в красивой шубке. И здесь, в Харбине, это видимо было привычно.
Саша, проводив взглядом очередную рекламную тумбу, сплошь заклеенную театральными афишами, снова вскрикнула и схватила за руку отца: по тротуару с достоинством шествовал китаец в юбке, а по спине его болталась длинная коса. Он был точной копией китайца с дедушкиной фарфоровой чашки! Голова у Саши закружилась от впечатлений и слабости, и когда пролётка остановилась у дома Иваницкого, она лишь мельком отметила высокие окна на фасаде из красного кирпича и заснеженный газон.
Дверь дома была распахнута настежь, а навстречу торопливо шёл крупный, совершенно седой человек с бритым моложавым лицом. Говорил он громко и так же стремительно двигался. Как-то неожиданно быстро все очутились внутри дома, и там уже стоял их багаж. Софья, посмотрев на свои грязные пимы, попятилась с ковра, который лежал на полу, и вдруг увидела себя в большом зеркале: крестьянский тулупчик, купленный ещё в Томске, зиял прорехами, и из них торчала шерсть. Саша выглядела не лучше в таком же тулупчике. «Душенька Софья Викентьевна, – загремел Кирилл Антонович, – не надо глядеться в зеркало! Сейчас вы все отмоетесь, переоденетесь, за самоваром посидите – не узнаете себя! Ваши баулы в дальние комнаты пока перенесут, располагайтесь». И столько доброжелательной силы было в Иваницком, что дальше всё именно так и произошло, и к столу Мальцевы и Станкевич вышли чистыми, переодетыми и отдохнувшими.
«Да-да, – думала про себя Саша, – всё повторяется. Такими же «сухими листьями» оказались в нашем доме Лариса Константиновна с малышкой Анютой, потом уже нас занесло в томский дом к Бахметьевым. Интересно, какая жена у Кирилла Антоновича? Только бы не «Мусенька Бахметьева». Этот же вопрос, видимо, волновал и Софью.
– Кирилл Антонович, а как ваша супруга отнеслась к нашему приезду? – нерешительно обратилась она к Иваницкому.
– Не волнуйтесь, уважаемая Софья Викентьевна, – добродушно захохотал Иваницкий, – моя супруга к вашему приезду никак не отнеслась – её нет… Да не извиняйтесь, дорогая, она жива, в полном здравии и находится в данный момент в Америке, куда укатила со своим новым мужем, бросив нас с Юлькой. Вот так… А Юлька – моя дочь и ровесница вашей Александре, она скоро появится».
Постепенно застольная беседа становилась всё более оживлённой, и даже немногословный и хмурый Станкевич разговорился. Но пережитое не хотело отпускать даже здесь, в красивом, благополучном, мирном доме, и разговор возвращался к бегству от войны.
– Вот что, господа, – тихо заговорил Кирилл Антонович, – то, что случилось с Россией – большая трагедия. Мы здесь, в нашей «счастливой Хорватии», никогда в полной мере не сможем понять, как же до этого было допущено. Мы можем только помочь, сколько будет в наших силах… Теперь предлагаю отправить наших милых дам отдохнуть, а мы в одиночестве пропустим рюмочку-другую за ваше будущее!
Уже с наслаждением вытянувшись в чистой постели, пахнущей какими-то душистыми травами, и почти засыпая, Саша в полусне вдруг снова увидела китайца с длинной косой, сошедшего с дедушкиной чашки.
Сколько она проспала в этой тихой комнате, но когда внезапно проснулась и села, сумерки смотрели в окно. В дверь постучали, Саша вздрогнула от неожиданности; «войдите», – тихо ответила, и на пороге появилась девушка лет шестнадцати. Она с любопытством смотрела на Сашу, а Саша на неё. «Юлька! – представилась девушка, – а ты Саша, я знаю». Саша внезапно оробела, почувствовав себя бледной и худой с кое-как остриженными волосами.
– Ты ещё хочешь отдохнуть? – после недолгого молчания спросила Юлька.
– Нет-нет, – заторопилась Саша, – я встаю! – И надевая приготовленное для неё платье, видимо, Юлькино, чтобы не молчать, спросила: – А что такое «счастливая Хорватия?
– Это такое шутливое название всей нашей маленькой страны, – важно ответила Юлька и засмеялась. – Ну, посуди сама, что такое «полоса отчуждения вдоль Китайской Восточной Железной Дороги»? Да ещё и с административным центром во главе – городом Харбин! Нет, мы любим эту полосу отчуждения и потому она – «счастливая Хорватия», а во главе у неё генерал Дмитрий Леонидович Хорват, управляющий Администрацией Железной дороги. А «счастливая»… Потому что счастливая, и всё!
Юлька опять засмеялась, не забыв при этом с удовольствием посмотреть на себя в зеркало. Кивнув головой, Саша спросила, указывая на фотографический портрет усатого человека в мундире с двумя рядами пуговиц: «А это кто?»
– Мой дед, папин отец, – гордо ответила Юлька. – Он был инженером-фортификатором! Но я его совсем не помню. А это моя мама, правда, красавица? В неё влюбился американский миллионер и отбил у папы…
Юлька замолчала, а Саша, взглянув на фотографию её матери, искренне заметила: «Ты очень похожа на маму, и ты тоже красивая».
Потом они немного помолчали, приглядываясь друг к другу. От внимательных Сашиных глаз не ускользнуло, что Юлька не только красива и благожелательна, но ещё по-взрослому уверенно держится. Она весело болтала, решив, видимо, что Сашу надо непременно развлекать, рассказала, что учится в очень хорошей гимназии Оксаковской,2 что собирается стать артисткой, а завтра покажет Саше Харбин. «Да, – думала Саша, – это другой мир, и они здесь совсем другие. И сколько мы будем делиться на „они“ и „мы“, неизвестно. Ведь всё, что было с нами, едва ли забудется. А если когда-нибудь вернёмся в Россию, то и там разделимся».
Так началась жизнь в Харбине, похожая на жизнь в довоенной России, и всё же совсем другая, словно явившаяся из забытого сна.
Отказавшись от предложения Иваницкого занять часть его коттеджа, Мальцевы устроились в небольшом, на две комнаты и кухню, флигельке, предназначенном для прислуги. Как и в коттедже, там было центральное отопление, водопровод и даже ванная. Кирилл Антонович распорядился послать для уборки приходящую слугу-китаянку. Домик отмыли, принесли кое-какую мебель, он принял вид вполне обжитой и даже уютный. Пройдясь по их новому жилью, Софья бодро заметила: «Ну, что же, мои дорогие, всё неплохо складывается… Но я думаю, мы здесь не очень надолго задержимся». Последние слова были сказаны ею нерешительно. Ах, если бы знала она тогда, в 1920 году, что проживёт в Харбине многие годы! И хорошо, что не знала…
***
После смерти Софьи Викентьевны прошло несколько месяцев. Начиналось лето 1966года, и Александра с растущим беспокойством ждала хоть каких-то вестей из советского консульства. В Китае набирало силу то, что назвали «культурной революцией»3, и на русских хунвэйбины4 посматривали со скрытой угрозой. Но Александра по-прежнему преподавала русский язык в китайской школе, и по-прежнему к ней традиционно почтительно относились её ученики.
Письмо из Советского Союза, оклеенное незнакомыми марками, пришло вслед за полученной наконец-то визой. Торопясь, Александра разрезала конверт с портретом космонавта Юрия Гагарина и вытащила оттуда свёрнутый лист бумаги. Из него выскользнула на стол фотография. Мгновенно похолодев, задрожавшей рукой Александра поднесла её поближе к свету… Сначала она увидела Митю, совсем взрослого, но всё такого же брата Митю, а возле него стояла девочка в белом берете. Женщина, вероятно, жена Мити, кого-то напоминала, но волнение никак не давало памяти зацепиться за нечто знакомое. На обороте фотографии было написано женской рукой: «Дмитрий, Анюта и Лидочка. 21 июня 1941 года».
«Уважаемая Александра Степановна! Дорогая Сашенька!» – так начиналось письмо.
«Вам пишет друг Вашего брата Фёдор Данилов или Федька, как меня называл в детстве Митя. Так получилось, что Ваше письмо, где Вы просите сообщить что-либо о возможных родственниках, попало ко мне, и я постараюсь рассказать о том, что происходило у нас почти полвека назад с того дня, 13 июля, когда Ваша семья покинула Екатеринбург.
Части Красной Армии вошли в Екатеринбург 14 июля, и отряд, в котором воевали Митя и я, ворвался в город одним из первых. Так что разминулись мы только на сутки. Мы искали вас в Томске, куда вы уехали, там вас не оказалось, и дальнейшие поиски тоже не дали результатов. Но думать, что вы сгинули в том чудовищном водовороте, не хотели, надеясь, что когда-нибудь вы все-таки объявитесь. И, наконец, чудо свершилось, но Митя не дожил до него.
После Гражданской войны он учился в педагогическом техникуме, а в 1930 году поступил в педагогический институт на математический факультет. Учился и преподавал в школе и был очень хорошим учителем. Женился он на Вашей, Сашенька, старой знакомой, на Анюте, дочери Ларисы Константиновны. В 1929 году у них родилась дочка Лида, Ваша родная племянница. Когда началась война, Митя ушёл добровольцем на фронт. Фотография, посланная Вам, последняя его мирная фотография. Он умер в 1944 году от тяжелого ранения, вечная ему память.
У Вас, Сашенька, есть внучатая племянница Елена, дочка Лиды. Лида журналистка, живёт с мужем в Ангарске, работает в газете, Лена студентка. Я не стал художником-камнерезом и не добился славы Денисова-Уральского. Пришлось всю жизнь бороться с теми, кто мешает людям жить – с преступниками. Вышел в отставку, но читаю лекции студентам в юридическом институте. Ваша няня Маня дожила до глубокой старости возле своего «ненаглядного Митеньки». Судьба Шамсутдинова мне неизвестна: однажды он попрощался со всеми и ушёл, несмотря на уговоры остаться.
Сашенька, мы Вас все очень ждём и надеемся, что Родина станет для Вас не мачехой, а матерью.
До встречи, милая Сашенька, теперь уже до скорой встречи.
Фёдор Данилов. 29 июня 1966 г.»
«Ах, Митенька, дорогой ты мой братик, – горестно покачала головой Александра. – Всего только сутки разделили нас навсегда, только сутки! Вот ведь больно-то как…» Вновь поднесла фотографию к глазам и улыбнулась сходству девочки Лиды с собой. А молодая женщина в простом белом платье – малышка Анюта! Помнят и ждут! « Спасибо тебе, друг Федор, за весточку! Теперь не одна на свете». Мигом собралась навестить могилы на кладбище и навсегда попрощаться с ними. Обошла всех, кто был дорог, всем положила цветы, пошепталась-поговорила со всеми, облегчила сердце. На обратном пути зашла в Свято-Николаевский собор. У входа погладила его деревянную стену шоколадного цвета совсем как в юности, когда торопилась на экзамен. Поставила свечки во здравие тех, кто жив, за упокой – тем, кого нет. Отдельно, – прошептав: «Помяни, Господи, убиенных воинов…»
Ранним утром накануне отъезда домой в Россию, в Советский Союз, в разорённой комнате присела в мамино кресло и огляделась. Багаж был упакован, дорожный сундук, с которым, бросая всё, уезжали из Екатеринбурга, ждал отправки. Домой-домой! Как когда-то девочка Саша в доме у Бахметьевых прощалась в своём дневнике с Томском, Александра взяла толстую тетрадь в твёрдой пёстрой обложке, чтобы перечитать страницы, рассказывающие о такой длинной жизни вдали от России.
«Жизнеописание Саши Мальцевой», – в который раз прочитала на первой странице. Ах, девочка Саша, ничего-то ты не знала о том, что тебя ждёт! И всё в этой тетрадке: и удачи, и потери, и любовь. Жизнь почти прожита, сколько осталось, может, десять – пятнадцать лет, и самое большое счастье – на родную землю вернуться.
***
Дневник Саши Мальцевой
«19 февраля 1920 года. Мы в Харбине, далеко от родного дома, от всего, что было нам дорого, от тех, кого мы любили. И всё-таки судьба, какой бы жестокой она ни была, сохранила нас в пути. Мама с папой при мне старались не говорить о папиных поисках работы, боясь обеспокоить меня, а наш домик так мал с его тонкими стенами, что я поневоле была в курсе их разговоров. Не без участия Кирилла Антоновича папу взяли врачом в Харбинскую рабочую поликлинику. Но мама решила, что я должна учиться в гимназии Оксаковской, несмотря на внушительную плату за обучение. Кроме того, мне надо навёрстывать упущенное, что невозможно без репетиторов, а это тоже немалые деньги. «Ну что же, – бодро сказал папа, – буду заниматься ещё и частной практикой». И тогда мама торжественно достала из комода широкий пояс, в который были зашиты золотые червонцы. Мамочка героически носила этот пояс под платьем и только в Харбине сняла его! А дальше была немая сцена.
«21 февраля 1920 года. Юлька водила меня по Харбину. Она ликовала, когда я буквально застывала с открытым ртом перед каким-либо зданием, напоминающим подобное в родном Екатеринбурге. Она что-то говорила о стиле «модерн», и я с уважением слушала её, потому что не так образованна. Теперь я знаю, что река Сунгари, на которой построен Харбин, горожанами зовётся Сунгирка совсем на русский манер. Что город, основанный русскими в 1898 году, состоит из трёх частей: Старый город, Новый город и Пристань. Что есть гимназии, колледжи, институты. И о чём Юлька говорила с большим энтузиазмом – театры, кинематографы и магазины! В один такой под названием «Торговый дом И.Я.Чурина» Юлька затащила меня, и я испытала ещё одно потрясение. После нищеты и разорения, которые окружали нас последние годы, это великолепие оказалось непосильным для меня. Ну, Бог с ним совсем!
«1 марта 1920 г. У меня совершенно неожиданно появился новый знакомый, о котором пока никто не знает. Я познакомилась с ним, когда в ясный день шла по Китайской улице, предаваясь любимому занятию: глазела на дома, людей и витрины магазинов. Вдруг передо мной возникла маленькая чёрная лохматая собачка. Сначала она дружелюбно повиляла хвостиком-крендельком, а потом встала на задние лапки. «Рынька, не приставай к барышне!» – послышался мужской голос. Я обернулась и увидела невысокого пожилого человека, лохматого, как его собачка. «Вы ей понравились, – сказал он мне, – обычно она более сдержанна».
– А почему Рынька? – спросила я.
– Её полное имя Рында, а сокращенно – Рынька, – очень учтиво поддержал разговор хозяин собачки, которая в полном восторге от внимания выписывала круги вокруг нас.
– А что такое «Рында»? – продолжила я разговор, не боясь быть назойливой.
– «Рында» – корабельный колокол. А у моей собаки такой же громкий голос – потому я назвал её Рындой или Рынькой. А вы, судя по всему, недавно в Харбине?
И столько искреннего внимания было ко мне, что я рассказала и про Митю, и как мы пробирались через всю Сибирь, что было с нами, и как потеряли своих друзей, и как Харбин похож на Россию. «Да-да, – пробормотал мой новый знакомый, – Харбин – осколок России. Я ведь тоже здесь оказался после японской войны. А брат ваш, возможно, ищет вас и ждёт, надеяться надо. Вот так, милая барышня! И друзья ваши тоже найдутся, не печальтесь!»
Мы не торопясь шли по улице, и мой новый знакомый, который представился просто «Ник-Ник», поведал удивительную историю. Она случилась в дни смертельной осады Порт-Артура. Чтобы корабли не достались японцам, эскадру затопили, и только нескольким эсминцам и катерам удалось вырваться и уйти. Среди них был эсминец «Статный» с ценным грузом на борту – полковыми и корабельными знамёнами. Моряки соединились с сухопутными войсками, и оборону крепости возглавил генерал Кондратенко.5 Защитники Порт-Артура, хотя их было гораздо меньше наседавшей армии японского генерала Ноги,6 не щадя своих жизней отбивали атаки противника…
Ник-Ник помолчал, посмотрел на меня, словно проверяя, интересен ли мне его рассказ. А мне было очень интересно! Ведь мой папа и Кирилл Антонович служили в госпитале Порт-Артура во время обороны!
…И вот после жестокой штыковой атаки генерал Кондратенко, обходя места схватки, наткнулся на окровавленный труп русского солдата. Бой был яростный и неравный, судя по тому, сколько врагов положил этот солдат. Генерал Кондратенко снял свой георгиевский крест и прицепил солдату на мокрую от крови гимнастёрку7. А дальше подхватила убитого похоронная команда и отправила на погребение. И вот тут-то «труп» застонал! Бегом понесли его в лазарет! А раненых там было – шагу некуда ступить. «Генерал приказал – немедленно! Только что едва не похоронили!» Колдовали над ним врачи, и выжил солдат. Сохранил его генеральский крест – на обороте у него была надпись «Да вознесёт вас Господь в своё время».
Я с гордостью возразила Ник-Нику, что не только крест сохранил солдата, но и руки врачей, возможно даже, моего папы.
17 марта 1920 года. Ник-Ник пропал! Он больше не гуляет с Рындой, и мне обидно и тревожно. Юлька успокаивала меня, говорила, что мало ли какие могут быть дела у этого таинственного «Ник-Ника». Но мне очень грустно.
19 марта 1920года. Всё разъяснилось, но, как же печально разъяснилось! Вчера пришёл мальчик-китаец с запиской для «дочери врача из России» от Ник-Ника. В ней было сказано, что «в результате полученных в дни обороны Порт-Артура пробоин ложусь на грунт». Я поначалу не поняла, что Ник-Ник написал о старых ранах. Но вспомнила, что когда мы гуляли, он рассказывал мне о своей канонерке, затопленной вместе с другими судами в бухте Порт-Артура в 1904 году, и всё стало ясно: его больше нет! Умирая Ник-Ник просил позаботиться о собачке Рынде.



