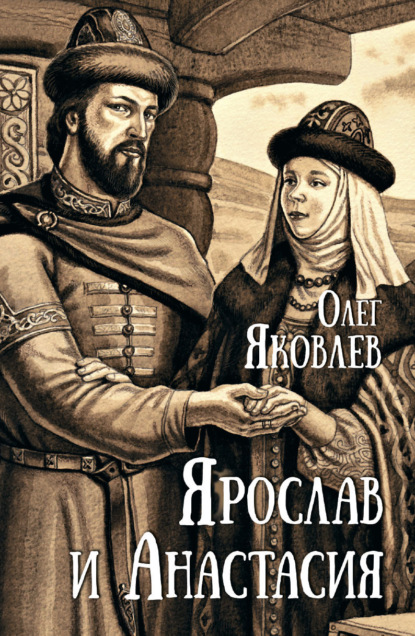
Полная версия:
Ярослав и Анастасия
Получалось, валам было больше тысячи лет. Даже не верилось, что они рукотворны, что человек, маленький такой в сравнении с могучими горами, с исполинскими дубами и стремительными полноводными реками, смог создать этакую громаду. И ведь на сотни вёрст простирались насыпи, грозные памятники древних противостояний.
Старейшина рассказал, что после Траяна, лет через двести, уже далёкие предки славян стали использовать валы себе на пользу. Для этого они засыпали ров со своей, полночной, стороны и выкопали его с другой, полуденной, тем самым закрывая путь преемникам Рима – ромеям и иным ворогам.
События во сне проносятся быстро, порой неожиданно сменяя одно другое, а проснёшься – и помнишь лишь обрывки, отдельные яркие части только что виденного.
Так и Ярослав – в дикой круговерти замелькали перед ним в хаосе какие-то лица, то ли знакомые, то ли нет, потом он снова, как наяву, оказался возле Траянова вала. Было время заката, багряная заря разливалась по небу, и, причудливо озарённые ею, бежали по склону встречь ему три девушки. Все три – красивые, такие, что дух захватывает. Они всё ближе, ближе к Ярославу. Вдруг замечает он, что все три имеют одно и то же лицо. То была Анастасия, дочь Чагра. Оторопело застыл Ярослав, развёл в беспомощности руками, наконец позвал, окликнул давешнюю знакомицу:
– Настя!
Ответом ему стал дружный заразительный смех.
– Вот она я! Держи, бери меня! – неслось с трёх сторон.
Схватил Ярослав за руку одну из девушек, самую громкогласную, но вырвалась красавица, отвернулась и… тут заметил с ужасом Ярослав, что нет у неё спины.
«Мавки лесные! – пронеслось в голове. – Завораживают, погубить меня хотят!»
Он попытался перекреститься, но десница словно налилась свинцом и не двигалась. Видел он, что и у остальных девушек отсутствуют спины. Вот все они дружно, взявшись за руки, подпрыгнули и вмиг исчезли, растворились на гребне древнего вала. Только смех их ещё долго стоял у Ярослава в ушах.
…Он проснулся в поту, набожно перекрестился, сел на кровати. Тишина и мрак царили в хоромах. Под дверью негромко похрапывал старый Стефан. Всё было мирно и спокойно, но почему-то в душу вкралась тревога.
Или, в самом деле, дочка Чагрова – мавка, злой дух старых славянских мифов? Господи, что за глупость идёт на ум! Девка-красавица и умом не обижена! Таких поискать ещё средь боярских дочерей – так и не сыщешь!
Приснился сон нелепый, дак что ж, верить ему теперь? Мало ли какая глупость во сне привидеться может?
И уже заныло в тоске сердце: как воротился давеча[89] из Малого Галича, так даже и не заглянул к Чагру в гости. Даже и мыслей о Насте не было в последние дни. Всё заботы: суды, советы с боярами, выезды в сёла.
«Поутру надо собраться к Чагру в хоромы, – решил князь. – Пусть хоть издалека, но погляжу на Настю».
…На дворе Чагра встретили Ярослава обряженные в чёрные платья молчаливые слуги. Тотчас показалась на крыльце и Анастасия – Ярослав обратил внимание на её заплаканные глаза, полные слёз и немого укора.
«Об Акиндине скорбят! А я уж и позабыл о нём! Да как же так?! Человек голову за меня положил, а я…»
С сокрушением глянул Ярослав на свой багряный кафтан. Впору хоть беги отсюда, с этого двора. Но ничего не поделать. Коли уж приехал…
Приложив длань к сердцу, князь наклонил голову.
– Скорблю с тобой вместе, боярышня. Добрый молодец был Акиндин. Ловок был и умён. Большое дело мы с ним справили. Меня защищая, и пал он… – Князь не договорил, стиснул уста, с трудом сдержал неожиданно подступившие рыдания.
Настя положила ему на десницу свою нежную белую руку и слабо улыбнулась. И опять, в который уже раз, заворожили, заколдовали, восхитили Ярослава эти серые с раскосинкой глазки, в которых под лёгкой паволокой скорби проглядывало лукавство. Понял, почувствовал Ярослав – она рада его приезду. Равно как уразумел он и то, что скорбь её невелика, что отплачет она, прольёт по обычаю по двухродному братцу положенные слёзы, повздыхает, пожалеет о столь быстро сгинувшей молодой жизни, а затем всё будет, как прежде – свидания их тайные, поцелуи и состояние не испытанного никогда им ранее блаженства. Грех? Да, грех! Но хотелось крикнуть в лицо тому ханже, кто осмелится их осуждать – а жить без любви, одной похоти ради – не грех разве?! Что вот они с Ольгой, что иные князья и бояре многие! Да, они венчаны, но что с того? Так было надо, того требовали их отцы, да и не только они… Это было важно для Галичины – крепить союз с сильным тогда суздальским владетелем. Было! Да, было! Тогда, не сейчас! Теперь всё по-иному. И не нужен стал Ярославу его брак, противна становилась ленивая, переваливающаяся при ходьбе, как утка, обожравшаяся на галицких харчах дочь Долгорукого!
Развод? Это шум на всю Русь, это вражда с Андреем и Глебом, это споры церковников, возможные епитимьи[90]. Одним словом – позор это! Да и потом… Многие князья в открытую живут со своими наложницами, хотя имеют и законных жён. Святополк Изяславич Киевский имел сразу двух жён, а Всеволод Ольгович и вовсе держал в Киеве целый гарем, словно сарацин[91]. Одни бабы по нему и ревели, когда он умер. Немало любовниц было и у Долгорукого, и у нынешнего владетеля Волыни Мстислава Изяславича. Не случайно написали про него дотошные летописцы: «Жён любил многих, но ни единая им не обладала».
Мстиславом не обладала, а вот им, Осмомыслом, кажется, овладела эта стройная, как стебелёк, прекрасноликая белая куманка. И уже запала в голову лихая мысль: вот сейчас он схватит её, возьмёт на руки, всадит впереди себя в седло и помчит, подгоняя боднями фаря[92], по склону горы вверх, в княжеские палаты. И больше он её никуда не отпустит. А Ольга? Пусть живёт в своём тереме и тешится, с кем пожелает. А дети? О будущем детей он, Осмомысл, позаботится.
Мысль о детях остановила лихой порыв.
«Сперва устрой их обоих, потом и решай. Не время, князь, рвать семью, какой бы плохой она ни была», – словно сказал ему некто строгий.
…Навстречу дорогому гостю уже бежал впереди облачённых в чёрные одежды сыновей и дворовых боярин Чагр. Смешно семенил он кривыми короткими ногами, кричал:
– Извини, светлый княже! Не ждали тебя! Проходи, светлый княже, гостем у нас будешь! Хоть и не веселье у нас нынче, но скорбь, но тебе всегда мы рады!
Вместе с хозяином и его сыновьями Ярослав помянул погибшего Акиндина и вскоре воротился к себе в хоромы. Дорогой скребли на душе кошки, он старался, но не мог отбросить в сторону мысли о Насте.
«Ну, не время о ней думать! Да и она, почитай, ребёнок ещё совсем. Подрастёт, тогда…»
И что тогда? Двойная жизнь, поцелуи тайком? Нет, он приведёт её к себе в дом и станет с ней жить, как с женой. А Ольга – ну её! Пусть уезжает, куда хочет. В монастырь или к братьям в далёкое Залесье. Вот только сначала надо подумать о Владимире и Фросе.
…Вроде и ездил недалеко Ярослав, а устал, как будто сто вёрст проскакал. Медленно сполз он с седла и, шатаясь, побрёл к морморяному[93] всходу. Он не замечал стелющихся в раболепных поклонах челядинцев, воинов в кольчугах, охраняющих терем, холопок с коромыслами в руках.
Думал он сейчас о своих чадах и их будущем.
Глава 8
Венгерский воевода Дьёрдь Або застыл в почтительности посреди горницы. В руках он держал грамоту с вислой печатью. Не в первый раз воевода в Галиче, хорошо знают его Осмомысл и ближние бояре. Постарел седоусый угорец, лицо его, грубое, коричневое от загара, испещрено было сеткой морщин, взгляд маленьких чёрных глаз стал не таким острым и колючим, каким был ранее. Устало и, казалось Ярославу, безразлично смотрел Або перед собой. Ничто не могло его удивить, всего насмотрелся старый воевода в жизни. Были и кровопролитные сечи, и миры, и трудные переговоры.
Ярославу хотелось сейчас остаться с угорцем наедине, вспомнить былое, поговорить по душам. А что? Дьёрдь Або всегда благоволил ему, всегда стремился к союзу с Галичем.
Но то будет после. Пока же старый Ярославов знакомец, разворачивая грамоту, читал на ломаном русском языке её содержание. Собравшиеся в горнице бояре слушали, переглядывались, перешёптывались между собой.
– Ишь, старый лис! Мира хочет, заигрывает с нами!
– А помните, бояре, как он со своим крулём под Перемышлем землю нашу огню предавал?
До тонкого слуха Осмомысла доносились обрывки неодобрительных фраз, князь хмурился, сидя на стольце[94], старался не обращать на злобный шепоток бояр внимания, кивал головой, слушая хриплый голос старого угра.
Молодой король Иштван, сын умершего Гезы, предлагал властителю Червонной Руси союз. С немецкой помощью он сумел победить в жаркой сече своего противника – дядю, именем тоже Иштван, сторону которого держал император Ромеи Мануил. Теперь на голове отпрыска Гезы вновь воссияла золотая корона, но положение его в стране мадьяр[95] оставалось весьма непрочным. Мануил готовился к новой войне, и многие знатные угорские бароны держали его сторону. Вот почему столь важен был юному Иштвану крепкий союз с ближним соседом.
«Сколько этому Иштвану лет? Кажется, семнадцать. Мальчишка! Кто же у них там, в Уграх, верховодит? – размышлял Ярослав. – Фружина Мстиславна, его мать, вдова Гезы? Та самая, сестра покойного Изяслава, которая подговаривала своего муженька начать войну с моим отцом? Бан[96] Белуш? Или, может, латинский архиепископ Лука? Говорят, он взял большую власть в стране угров. Добился у короля права назначать на церковные должности. Надо, ох, надо потолковать с Або с глазу на глаз!»
Он принял грамоту и милостиво отпустил посла, сказав, что подумает над предложением венгерского короля.
Едва покинул Або горницу, шум пронёсся по рядам бояр. Разгорелись жаркие споры. Зеремей, перекричав прочих, заявил громогласно:
– Неча вора сего слушать! Нам, княже, надобно за единоверную Ромею держаться, но не за латинских еретиков! Тако отец и дед твой поступали!
– Угры – они завсегда ножи за спиной держат! – поддержал его Внезд Держикраевич.
С ними соглашался, постукивая по полу посохом, епископ Козьма.
Иное сказал Избигнев. Просто и ясно изложил Ивачич свою мысль:
– Ссориться с уграми нам не с руки. Они – рядом, тогда как Мануил – далече.
За союз с Иштваном высказался также и Филипп Молибогич.
Долго спорили бояре, старые ворчали, не веря в разум молодых, молодые же готовы были подкрепить свои доводы кулаками.
Ярослав, недовольно сдвинув брови, призвал к тишине и покою.
– Негоже руки распускать! – пресёк он споры. – Выслушал я ваши советы, мужи. Полагаю, с королём угорским нужен нам мир. Что же до Мануила… там посмотрим. Не время пока с ним враждовать. Но вассалом его почитать я себя не намерен. Всё на этом!
Бояре ушли, одни с ропотом, другие согласившись с княжеским решением. Единства среди бояр не было, и крики эти и шум – очевидные признаки раскола между «набольшими мужами», даже радовали порой князя. Такие, разобщённые, не смогут они навязывать ему свою волю.
…Беседа с Або состоялась у Ярослава на следующий день. При встрече в покое на верхнем жиле хором присутствовал также Избигнев. Вначале вспоминали былое, неудачные переговоры с Изяславом Давидовичем, поездку в половецкие вежи[97] на Буге, схватку в стане и тяжкое ранение Избигнева половецкой стрелой. Постепенно Осмомысл перевёл разговор с минувшего на настоящее.
– Выходит, Иштван укрепил власть свою? Многих баронов подчинил себе? Правда то? – спросил он, привычно лукаво щуря глаза цвета речного ила.
– Правда, князь.
– Но король Иштван ещё весьма юн, – продолжил Ярослав. – А в таких важных делах, как управление державой, нужен немалый опыт.
Або усмехнулся и смолчал.
– Что ж, буду говорить более прямо и откровенно. Ответь мне, достойный воевода. Кто водил рукой юного короля, когда писалась давешняя грамота? Вдовая королева Фружина? Архиепископ Лука? Или, может, бан Белуш?
– К сожалению, бан Белуш погиб. Его убили изменники, прихвостни императора Мануила, – со скорбным вздохом ответил старый воевода. – Удивлён, что ты не ведаешь об этом горестном событии.
– Увы, воевода! – Ярослав развёл руками. – Вести не всегда преодолевают вершины Горбов.
Ему становилось ясно, что опытный, искушённый в делах Дьёрдь Або не желает раскрывать тайны эстергомского двора.
«Пошлю к уграм Избигнева. Надо, чтоб проведал… Он сможет. Тем паче, что бывал у них. Знает их молвь», – решил Ярослав.
– Ну, ладно. Прожитого не воротить. Выходит, король ваш мира со мной ищет. Мир – то добро. Я тоже с ним ратиться желания не имею. Ответь, воевода, у короля вашего невеста есть?
– Нет пока. А что? – Вопрос последний, видно было, застал Або врасплох.
– Да подрастает у меня невеста. Десять лет. Дитё ещё, конечно, младше Иштвана твоего, но обручить вполне можно. А подрастёт немного, и скрепим союз наш этим браком. Вот и передай королеве Фружине, или кто там у вас верховодит, о предложении моём. Мол, польщён князь Ярослав вниманьем к себе и жаждет мир с вами упрочить. Понял, воевода? – Осмомысл лукаво подмигнул несколько смущённому угру.
Або пробормотал после некоторого молчания:
– Думаю, твоя мысль будет приятна королю.
На том князь и воевода и расстались, довольные друг другом. Избигнев получил повеление вместе с Або отъехать в Пешт, где сейчас обретался королевский двор. Отпустив обоих, Ярослав остался в покое один. Он думал о маленькой Фросе, и становилось ему страшно. Что ж это он делает?! Он, любящий отец! Он хочет устроить выгодный брак и обеспечить будущее дочери? Да, так. Но ведь Фрося ещё столь мала! И полюбит ли она короля угров? А если нет, если станут они жить так же, как и он с Ольгой?!
Нескончаемой цепью выстраивались перед Ярославом вопросы. Искать ответы на них было негде. Словно стена высокая возникла на его пути, и куда бы он ни пошёл, всякий раз упирался в эту стену. В конце концов он нехотя поднялся и направился через тёмный охраняемый стражей переход в хоромы Ольги.
Час был вечерний, и Ольга уже отдыхала после обильного ужина. Лениво зевая, она села на широкую постель, отбросив в сторону одеяло. Ярослав устроился напротив неё на лавке, исподлобья глянул на её густые спутавшиеся волосы, на грузное тело, на тяжко вздымающуюся в такт дыханию грудь.
Давно уже живут они врозь. В прошлом остались жаркие ночи, поцелуи и совокупления. Ярославу доносили, что завела княгиня себе молодого любовника, но почему-то ему было всё равно, навет это или правда. Анастасия царила в сердце Осмомысла, царила нераздельно и неотступно. Он знал, Настя – это его судьба, его жизнь, его будущее. А Ольга – прошлое, осколок былых страстей, былых, старых союзов.
– Чего тебе? Почто пришёл? – В словах княгини чувствовалось удивление. – Али соскучился?
– Речь о нашей дочери, – пояснил Ярослав. – Принимал давеча угорского посланца. Король угров предлагает мир и союз. Нынче снова имел беседу с послом. С глазу на глаз баили. И мысль есть обручить Ефросинью с королём Иштваном. Вот и пришёл вопросить, что ты об этом думаешь?
Ольга передёрнула плечами. Вздохнула тяжело, промолвила:
– Говорила не единожды: любишь ты дочь нашу. Лишний раз в том убедилась. Устраиваешь её, выгодного жениха вот сыскал. О таком любая невеста мечтает. А что мала Фроська, дак вырастет, оглянуться не успеешь. Об ней, стало быть, заботу имеешь, а о Владимире нисколь не думаешь. А ить[98] сын наш большой уже – тринадцать годов. Дед мой Мономах в его лета уже в Ростове княжил. Пора нашему сыну стол давать.
– Землю делить? Не для того отец мой её собирал воедино! – резко ответил ей Ярослав. – Стола ему не дам покуда. А к делам управленья – что ж, пусть ездит со мной на полюдье[99], на суды, пусть учится, опыт перенимает. Да только гляжу я: не лежит к этому душа Владимирова. Грамоту едва осилил. Куда такое годится? Боязно дела большие ему доверять.
– Не любишь ты его вовсе!
– Вот с Фросей уладим дела, тогда и за Владимиром очередь. Обещаю тебе: сыщу ему добрую невесту, – объявил жене Осмомысл. – Может, оженится, умней станет.
– Может, – тихо повторила Ольга.
В свете свечи глаза её, серые с голубинкой, источали печаль. Едва не впервые стало Ярославу вдруг её жалко.
«Не виновата она. Выдали, не спросясь. На всё воля Божья», – пронеслось в голове.
– Что ж, Фросю я подготовлю. Расскажу ей об Угрии, о короле, – пообещала княгиня.
Эту ночь супруги провели вместе. Хоть и не было прежней страсти, и быстро заснула Ольга, положив доверчиво руку ему на грудь, но по всему телу Ярослава растекалась нежность. Впереди были ссоры, обиды, была вражда, была Анастасия и много ещё чего, но сейчас он гладил волосы нелюбимой жены, слышал её тихое похрапывание и вымученно улыбался. На душе воцарилось спокойствие.
Глава 9
Начало осени в тот год выдалось на редкость хмурым и дождливым. Небо до самого окоёма[100] обложили серые тучи, и непрестанно, изо дня в день, обильно поливал землю дождь. На полях пропадало жито, в грядущую зиму ожидался голод, какого не бывало даже в годы тяжких ратных противостояний.
Большие и малые реки выходили из берегов, затопляя дома, поля и пашни. Днестр, набухший, мутный, грозно клокотал меж крутых берегов, силился освободиться из их крепких объятий, бушевал яростно, взметая пенную волну. Наконец единожды в ночь вырвался из скальных оков бешеный поток, снёс, как пушинку, мост, покатили в обе стороны свирепые волны, всё сметая и ломая на пути своём: заборы, дома, деревья.
Непогодь была жуткая. Вода дошла аж до Быкова болота, даже Луква, и та разлилась, по галицкому посаду люди передвигались на лодках и спасались от напасти на верхушках самых высоких холмов, докуда водная стихия добраться не могла. Давно такой беды не случалось на Червонной Руси. Старики, и те не могли вспомнить ничего подобного. Да, были войны, были лютые зимы, были неурожаи, но чтоб такое!..
Порой страшно становилось Ярославу. Без устали скакал он во главе дружины из веси в весь, иной раз проваливаясь по брюхо конское в мутную жижу, приказывал возводить насыпи, отводить воду в сторону от жилых построек. По его веленью гридни раздавали в особенно сильно пострадавших селениях оборванным несчастным крестьянам хлеб и рыбу. Даже дань, и ту приказал в сей год Ярослав где уменьшить, а где и вовсе не брать – видел он, понимал, что нечем людям платить. Но так было только в княжеских вотчинах, в боярских же сёлах тиуны лютовали, что звери – не было таким, как Коснятин или Зеремей, никоего дела до нужд простонародья.
…Мчались вершники по напоённым влагой полям, брызги летели из-под копыт, кафтан князя весь вымок и покрылся пятнами грязи. Где-то чуть позади скакал Семьюнко, князь слышал недовольное ржание его пегой кобылки. По левую руку держался могучий богатырь Святополк, рядом с ним нёсся, хмуро поджимая губы, молодой десятник Дюк. Они обогнули Быково болото и выехали к затопленному берегу Днестра. Впереди замаячили крыши нескольких больших изб. Сами жилые строения находились под водой. Дождь бил в лицо, и уровень воды всё прибывал. Люди спасались на высоких деревьях, их осторожно спускали вниз и сажали в обоз. После потерявших кров отвезут в Галич и накормят с княжьих харчей – так распорядился Осмомысл. Люди ему были нужны, ещё он хотел, чтобы простой народ его уважал и любил. Как покойного Ивана Берладника, про которого уже пели песни. Пусть же знают, что он, Ярослав, справедлив и милостив и не оставит пострадавшего от наводнения в беде.
Семьюнко отвлёк князя от дум.
– В тех домах – житьи[101] живут. Люди небедные. Холопов своих имеют. Хозяйство у них справное… было.
– Вот то ж, что было, – отозвался Ярослав, вытирая ладонью мокрое от дождя чело. – А ныне невесть – жив ли там кто.
Он подхлестнул коня, но тотчас круто остановил его.
– Далее не проехать. Лодка надобна.
Возле крыши затопленного дома на верхушке стройного бука виднелись две фигурки в белых посконных[102] свитах[103].
– Кто ж тамо? Дети, что ли? – силился разглядеть их издали Дюк. – Как будто тако.
– Должно быть, – согласился с ним Семьюнко.
Ярослав первым впрыгнул в лодку. Вместе с Семьюнкой и Дюком они погребли к дому. В ушах свистел ветер, пару раз их едва не захлестнуло волной, прежде чем оказались они возле торчащего из воды широкого ствола.
Две дрожащие от холода и страха девчушки из последних сил цеплялись за ветви древа и плакали от отчаяния. Ярослав подхватил одну из них, темноволосую смуглянку лет одиннадцати, вторая же девочка сама уцепилась за его локоть и осторожно спрыгнула в лодку.
– Кто вы таковы? Как тут оказались?! – спросил Семьюнко, едва девочки устроились на дне лодки.
– Я Порфинья, а она-от – Фотинья, – ответила чёрненькая. – Из житьих мы.
– Экие имена заковыристые, – рассмеялся налегший на вёсла вместе с князем Дюк. – А отцы, матери ваши где?
– Мои все утопли. – Порфинья, не выдержав, горько расплакалась, спрятав лицо на плече у подружки.
– А о моих не ведаю, – вздохнула вторая девочка, сероглазенькая, с волосами под цвет глаз и смешным кругленьким носиком. – На том берегу живут. Отец в Галич по делам уехал, а мама… Мама меня к Порфинье погостить отпустила. А тут беда сия. Вытолкали Порфиньины отец с маткой нас, усадили на древо, а сами… спастись не успели. Волною накрыло.
На глазах Фотиньи засверкали слёзы.
Вроде и некрасива совсем, а мила была девчушка и чем-то притягивала к себе взоры взрослых мужей.
– А вы кто? – спросила, нисколь не смущаясь, Фотинья.
– Я князь ваш, – едва сдерживая улыбку, отмолвил ей Ярослав. – А они мужи мои ближние. Это Семьюнко, это Дюк.
– А ты вправду князь? Ты нас спасёшь, да? Вот здорово! – Серенькие глазки девочки вытаращились от изумления.
Подружка её тем часом утёрла слёзы и смотрела на Осмомысла с неменьшим любопытством.
Лодка наконец уткнулась в песок. Девочек вытащили на сушу. Фотинья недолго думая вскарабкалась на княжьего коня и устроилась перед Ярославом. Порфинью подхватил и усадил к себе на конь Дюк.
– Мчим в Галич! – приказал, обернувшись к своим, Ярослав.
– Как твоего отца звать? – спросил он девочку. – Где его сыскать можно?
– Миколой его кличут. А должен быть он у Тверяты, купца. С ним многие дела он имеет.
– Из житьих вы, стало быть? Хозяйство своё имеете, скот, холопов. А знаешь ли ты, что таких, как вы, могу я к себе в хоромы пристроить? Ну, не к себе – в бабинец. Будете за столами знатным боярыням прислуживать. А подрастёте – женихи для вас найдутся. Для всякого житьего служба на княжьем дворе – большой почёт.
– За то вельми благодарны будем тебе, княже, – пропищала в ответ Фотинья.
…Обеих девочек Ярослав, как обещал, пристроил в бабинец. Ольга была не против – выходцы из житьих чаще оказывались более верными князьям, чем бояре с их интригами и коварством. Прислуживали Порфинья и Фотинья с тех пор княгине и боярыням за столом во время частых пиршеств, раскладывали скатерти, носили кушанья и вина. Отца Фотиньиного нашли целого и невредимого, жива оказалась и мать её, правда, хозяйство всё было порушено наводнением.
– На три лета освобождаю тебя от дани! – объявил Миколе, приземистому мужичонке с пегой бородкой, Ярослав. – И даю тебе такожде двунадесять гривен – чтоб отстроился заново, двор свой и хозяйство возродил.
Ошарашенный такой милостью Микола кланялся князю в пояс и слёзно благодарил.
– Что-то добр ты вельми, княже, к сим житьим людишкам. С них жёстче спрашивать надобно. Пускай бы отрабатывал гривны твои, – упрекал после Ярослава Семьюнко. – Или… мне сие дело поручи. Уж я с него стрясу!
– Сказал: дарую гривны! – недовольно прикрикнул на него Ярослав. – И довольно об этом! Всех, конечно, гривнами не задаришь, но Микола… пусть отстраивается.
Семьюнко обиженнно прикусил губу. Не первый год косился он на богатые рольи[104] этого житьего, хотел прибрать их к себе, да всё никак не получалось. А теперь… такой был случай! Но князь вмешался, не дал закабалить сего Миколу, спросил, догадываясь, верно, о замыслах товарища своих детских лет:
– Или у тебя земли мало, что всё на чужое глядишь, друже Семьюнко?
– А с Порфиньиным двором как быть? Она ж топерича сирота.
– А Порфиньин двор и хозяйство, коли родичей более у неё нет, под себя я возьму. Так положено, коли она у меня в хоромах служит. А после, как замуж пойдёт, мужу её и отдам, – сказал Ярослав. – Всё тут просто и ясно. Что мудрить?
Скрыл в душе своё недовольство Семьюнко, через силу улыбнулся в ответ, пожал плечами, отмолвил кратко:
– Твоя воля, князь.
Но с того разговора, с тех слов пробежала между друзьями первая тень.
Глава 10
Избигнев вернулся в Галич уже зимой, когда мало-помалу схлынули мутные воды, закончились проливные дожди, Днестр успокоился в своём каменном ложе, покрывшись тонкой корочкой льда, а в воздухе закружились в причудливом плясе снежинки. Белым покрывалом укутались холмы, лёд сковал ушедшую в своё обычное русло Лукву, засыпало снегом густой кустарник, росший по балкам и буеракам.

