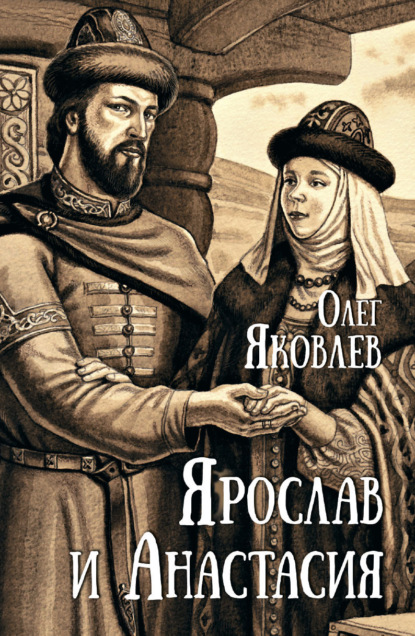
Полная версия:
Ярослав и Анастасия
…Попировали, и в самом деле, бояре в тот день славно. Когда же отправился Зеремей восвояси, поздно ночью явилась к мужу в покой Гликерия Глебовна.
– Слыхала я весь разговор ваш. На что толкаешь ты брата, Коснятин? – потребовала она ответа. – Али супротив князя что мыслишь?
– Да что тебе… – начал было Серославич, но внезапно осёкся. – Ты, выходит, подслушивала, дрянь! Да как ты посмела?!
– Да будто я и без того не ведаю, что ненавидишь ты князя нашего. Вот почто ненавидишь, не пойму никак. – Гликерия грустно усмехнулась и пожала плечами. – Одно ведаю: из за сей ненависти твоей и деток у нас более нету. И Пелагея умом повреждена.
– Экая глупость! – злобно рявкнул Коснятин. – А что не по любу мне Ярославка, дак оно верно. Вопрошаешь, почто?! Да он тогда под Теребовлей отца моего в чело поставил, на гибель верную, а сам сзади укрылся! Батюшка мой сгинул, а Ярославка с ворогами нашими, со Мстиславом Изяславичем союзиться вздумал! И ещё. Вот ты подслушиваешь под дверью толковню[48] нашу. И что разумеешь? Ответь: в чём сила земли Галицкой?.. Молчишь? А я тебе отвечу: в нас, в боярах, в единодушии нашем! Мы, бояре – сердцевина земли, мы – опора её! Без нас не будет ни князя, ни попов, ничего не будет! А Ярославка – он нас, родовитых бояр, не держится, таких, как Семьюнко безродный или как Шварн, чужой нам, на наши места в думе выдвигает. Хочет пригнуть бояр к земле, навязать им свою волю, узду на шею повесить. Да не получится у него! Слышишь ты?! Не получится! Вон как в Новом городе, тако и у нас будет! Князя сами себе выбирать станем мы, бояре!
Боярыня сокрушённо замотала головой в тёмном убрусе.
– Экие мысли у тя страшные! Бес в тебе сидит, Коснятинушко! Ты б во храм сходил, покаялся! Иначе… Сердцем чую, лихо нам всем будет. Не получится у нас, яко в Новом городе. Не собрать тебе бояр. Розно они живут. У кажного – свои помыслы, своя стёжка-дорожка. И кажен другому путь перебежать хочет.
Ничего толкового не ответил ей Коснятин, не возразил, отмахнулся лишь, промолвил скупо:
– Тамо поглядим. Ясно дело, голову в пасть львиную класть не стану. Но батюшкину смерть ему не прощу. Николи[49] не прощу! Тако и ведай!
Жена, взяв в руку свечу, со вздохом удалилась, а Серославич долго ещё вышагивал взад-вперёд по покою и тихо повторял:
– Чагровна, стало быть. Что ж, поглядим, поглядим!
Глава 3
Князь Киевский Ростислав Мстиславич паче прочего уважал и любил иноческий чин. Почасту проводил он время в Киево-Печерском монастыре, приходил на трапезу к монахам, вкушал по средам и пятницам постную пищу и со слезами на глазах почти всякий раз говорил, что покинет наскучивший ему великий стол, примет постриг и окончит земные свои лета в Печерах. И всякий раз монашеская братия во главе с новым игуменом Поликарпом, который занял место почившего Акиндина, хором удерживала Ростислава от столь неблагоразумного поступка, говоря:
– Тебе, княже, иная стезя Господом назначена! Правь нами, сирыми, а мы молиться будем за тебя и за всю землю Русскую.
Растроганный, возвращался Ростислав в свой дворец. Править ему и в самом деле не хотелось, но твёрдо осознавал он, понимал: он – старший, и власть его зиждется на старых обычаях, на заветах отцов и дедов. Если же порушишь сии заветы, всё пойдёт на Руси кувырком, как было в годы правления обоих Изяславов.
Не обделил Бог князя Ростислава потомством. Первенец его, Роман, занял смоленский стол, второй сын, Святослав, княжил покуда в буйном и непокорном, как необузданный конь, Новгороде, младшие сыны – Давид, Рюрик и Мстислав – получили от отца городки в Киевской волости. Так уж вышло у Ростислава, что следом за пятью сыновьями родила ему княгиня троих дочерей – Елену, Аграфену и Агафью. Дочери пока были малы, но им уже подыскивал чадолюбивый князь добрых женихов на Руси и за её пределами.
Семью свою Ростислав любил, всех старался обустроить, а вот державными делами занимался мало, не следил ни за дружиной, ни за тиунами[50]. От разборов судебных дел отмахивался, словно не его то были заботы. Тиуны лихоимствовали, бояре самоуправствовали, о Правде Ярославовой начинали в сёлах и деревнях забывать.
После гибели в бою на Желани главного противника Ростислава в борьбе за Киев, Изяслава Давидовича, жизнь в Киеве потекла размеренно и спокойно. Никто не воевал, не грозил ратями, мир был заключён и с Черниговом, и с Суздалем, и с половцами. Наезжали в Киев послы в нарядных одеяниях, щедро одаривали Ростислава и его ближних подарками, славили самого князя и его окружение за мудрость. Так было принято. Наступило на Руси время хрупкого, зыбкого равновесия.
…Галицкий боярин Избигнев Ивачич в последнее время зачастил в стольный. То посылал его Осмомысл с грамотами к Ростиславу, то приглашал погостить у себя в вотчинах старинный приятель, боярин Нестор Бориславич, а то и сам, по своей воле и охоте приезжал Ивачич в Киев. На Копырёвом конце[51], возле строений Симеонова монастыря купил Избигнев старинный дом, говорят, выстроенный некогда одним иудеем-ростовщиком. Иудей тот погиб вместе с семьёй во время полувековой давности встани[52] в Киеве, вспыхнувшей по смерти князя Святополка Изяславича, и просторный дом переходил из рук в руки. Сперва володел им огнищанин[53] Всеволода Ольговича, после – вышгородский[54] тысяцкий[55], следом за ним – богатый купец – гречин, который, собственно, и продал сии хоромы Избигневу.
Дом пришлось обновить, окна покрыть наличниками, стены снаружи подвести киноварью[56], изукрасить узорами. Имел дом два яруса и две круглые теремные башенки, пристроенные по краям. Деревянные ступени всхода велел боярин заменить на новые, сложить их из белого галицкого камня. Рядом с домом возвели одноглавую церковь, неподалёку, посреди двора, выстроили высокую серокаменную башню с узкими решётчатыми окнами. Башня сооружена была для боярыни Ингреды и напоминала ей о Швеции, где провела супруга Избигнева свои юные годы.
К башне примыкал яблоневый сад с небольшим прудом, в котором плавали утки и гуси.
Два лета без малого строили, подновляли и украшали хоромы на Копырёвом конце зиждители[57] и строители. И вот когда наконец завершены были все работы, пригласил к себе Избигнев друзей своих киевских – бояр Нестора и Петра Бориславичей.
Вначале, как было принято, обошли дом и сад, Избигнев показывал, как у него что устроено, братья Бориславичи кивали в ответ головами, отвечали коротко:
– Лепо. Баско. Добро содеяно.
После сытного обеда сидели втроём в горнице. Нестор спрашивал, хитровато щуря карие глаза:
– Боярыню мыслишь поселить здесь с чадом? И сам жить будешь? Киянином[58] порешил стать?
– Не совсем так, друже. Жить здесь временами буду. Всё ж таки на службе состою у князя Галицкого, дел и в Галиче немало. Дом же пусть стоит. Уж вельми место сие приглянулось мне. Может, дети мои, внуки навсегда здесь поселятся. А может, и нет.
– Может, нет, – задумчиво повторил многомудрый Пётр.
Беседа быстро перетекла на нынешнее положение вещей. Избигнев стал расспрашивать о князе Ростиславе.
– Хандрит князь, – отвечал ему Нестор. – Всё в монахи идти хочет. Едва отговорили намедни.
– И что будет, если уйдёт он?
– Да что будет. Мстислава Изяславича в Киеве любят. Многие бояре – за него.
– А сыны Ростиславовы?
Нестор пожал плечами и ничего не ответил. Промолвил Пётр:
– Давид и Рюрик – жадны они до волостей. Роман – тот покладистей, спокойней норовом. Книжник, как твой Осмомысл. Но Мстислав Изяславич – стратилат. И прав на Киев у него больше. Ибо отец его сидел в Киеве раньше Ростислава.
– Да уж. – Нестор вздохнул.
Видно было, вспомнил боярин прежние времена, князя Изяслава Мстиславича. Вспомнил и Избигнев слова Петра у гроба Изяславова: «Последний великий князь был у нас».
После явилась к ним молодая хозяйка, вся блистающая узорочьем цветастых дорогих одежд. Выступала Ингреда, стойно[59] княгиня, говорила, чуть растягивая гласные:
– За стол прошу вас садиться, бояре. Сбитня, квасу, закусок разноличных прошу отведать.
Красива была Ингреда. Тонкий стан, белоснежная кожа лица, высокое чело, короткий, немножко вздёрнутый носик, уста алые, как ягодки рябины, – засмотрелись на неё братья. Пётр первый одёрнул себя, отворотил взор, потупил очи. Зарделся, яко девка, а ведь в свои сорок с лишком годков уже во второй раз был женат.
– Благодарим тебя, хозяюшка добрая, – поднявшись с лавки, слегка наклонил голову Нестор. – Рады мы за тебя и за Избигнева. Видим, что живёте вы друг с дружкою душа в душу. Тако бы и нам всем.
Он искоса глянул на брата. Пётр ни в первом браке, ни во втором счастья не обрёл. Первой супругой его была сестра тысяцкого Улеба. Красивая была девка, да гулевая, не сиделось ей в тереме у Бориславичей. Носила боярыня гордое имя Евпраксия, но за похождения её, всему Киеву известные, прозвали её Забавою. Во время одного из приходов в Киев Долгорукого сбежала она от Петра с красивым суздальским отроком[60]. После искали её, даже в Суздаль людей посылали. Ответил тамошний тысяцкий: померла, мол, Забава ваша во время мора вместе с полюбовником своим.
Погоревал Пётр, да делать нечего, оженился вдругорядь[61], на одной молодой вдове, Евдокии Путятичне. Да вновь неудачно, хоть и получил за женой немалое богатство. Новая жена оказалась крикливой и властной бабой, кулаки у ней были крепкие, такие, что и поколотить могла своего тихого, спокойного нравом супруга. Кроме того, на каждом празднике упивалась боярыня до положения риз, так, что стыдно за неё становилось перед людьми. Где то видано было, чтоб жёнка тако себя вела? Оставалось вздыхать да разводить руками. Прогнать бы её прочь, да не хотелось Петру терять доставшиеся ему от жены волости. В волостях тех навёл он порядок, сам поставил верных себе честных тиунов из своих холопов, наладил в короткий срок порушенное хозяйство. Его хвалили, а кроме того, известен был Пётр на весь стольный Киев своей учёностью. Был умелым уговорителем, мог и князя убедить в своей правоте. Князей в Киеве сменилось немало, а он, Пётр, оставался. Бояре киевские ценили его советы, простой люд уважал за то, что не бесчинствовал он в своих владениях, давал дышать простому человеку. А вот в семье у Петра лада не было. Приходилось ему тосковать горько да другим завидовать.
…Братья покинули Копырёв конец уже в вечерних сумерках. Ехали конные, шагом, не спешили.
– Добре друг наш Избигнев устроился, – сказал Нестор.
– Это так, – согласился старший брат.
Оглядевшись по сторонам, не подслушивает ли их кто, он хриплым голосом негромко добавил:
– Ты, брат, не всегда ему всё, что думаешь, говори. Пойми, он – человек Осмомысла. А у галицкого властителя, думаю, чаяния и мечты дальние. Это тебе не Ростислав богомольный. Осмомысл – у него на Галичине порядок, бояре спесивые тихо сидят.
– И что? Думаешь, Осмомысл на Киев посягнёт?
– Нет, не то. Умнее он. Полагаю, он своего ставленника посадить здесь захочет. А Избигнев – первый у него человек. Вызнает всё, и о боярах, и о посадских людях. Вот тогда… Как бы нам под Галичем и не оказаться, брат Нестор. Но то так покуда, мысли мои, предположенья. Одно скажу: осторожен в разговорах с Ивачичем будь. Лишнего не болтай. Понял?
Нестор угрюмо кивнул головой. Не хотелось ему хитрить с человеком, которого считал другом, но понимал он, что Пётр прав. Сегодня они – заодно, а заутре… Бог весть, что будет. Слишком тугой верёвкой переплетены на Руси интересы разных людей: князей, бояр, воевод.
…Утонули в синей сумеречной мгле за Жидовскими воротами всадники. Стих вдали топот копыт. На Киев спустилась ночь.
Глава 4
Плоскую равнину, поросшую дубовым и буковым лесом, пересекали узкие, глубокие овраги, по которым проложили себе русло бесчисленные речушки. Край, полный зверя, птицы, рыбы, окаймлённый с западной стороны долиной Сирета, а с востока – Прута, сложенный известняками, глинами и песчаниками, издревле был обиталищем разноличных бродяг и беглых людей из сопредельных земель – Угрии, Червонной Руси, Болгарии. Крутой дугой охватывала плато река Берлад, а на правом берегу её раскинулся город с тем же названием – самый большой в этих местах. Селились тут славяне, греки, угры, волохи[62], печенеги – кого только не было. Неподалёку от Берлада находились развалины древней дакийской крепости Зузидавы, разрушенной то ли римлянами, то ли славянами, то ли готами много столетий назад. Город Берлад имел широкую пристань, просторное торжище, повсюду видны были мазанки и отдельно стоящие избы-хутора. А вот укреплён был Берлад неважно, опоясывал его лишь частокол из плотно подогнанных друг к другу заострённых кольев. Но нападения вольница берладницкая не боялась – где не спасали стены, помогали храбрость и отчаяние. Доселе никому из соседей не удавалось подчинить Берлад, склонить к земле, подавить волю его непокорных жителей. Жили набегами, ходили «за зипунами» аж за сине море. Друг дружку держались, понимая, что при такой лихой жизни всякая может приключиться беда, братались, а для выбора нового похода скликали круг. На том же круге выбирали тысяцких, сотников и десятников. Единой власти не было. Кто не хотел, мог уйти.
…Старый, с седыми вислыми усами и морщинистым лицом, в нескольких местах перерезанным застарелыми шрамами, сотник Нечай не удивился, увидев перед собой незнакомого чернявого парня, одетого кое-как, в стоптанные постолы[63] и пыльный кафтан землисто-серого цвета. Баранья папаха лихо заломлена набекрень, чуб вьётся на смуглом челе, белые зубы сверкают в улыбке. Много таких, молодых удальцов, приходило в Берлад, многие добывали себе славу, богатство. Но были и те, кто и голову терял в первом же бою, в лихой сумасшедшей сшибке с очередным врагом. Это уж кому как повезёт.
Сам Нечай в последние годы жил тихо, в походы почти не хаживал. Лета были уже не те, чтоб мчаться с саблей наголо по степи, выискивая добычу, или грести на струге, вспенивая морскую гладь. То одно болит, то другое. Добра же накопленного за годы жизни в Берладе покуда сотнику хватало. Да вдвоём со старухой-женой они как-нибудь век свой доживут. Было у Нечая трое сынов, да все полегли в жарких сечах, были две дочери, да давно уже вышли они замуж и уехали в дальние края: старшая – на Волынь, младшая – в Поросье. Только и осталось у старого Нечая в жизни, как вспоминать столь быстро прошедшие годы, былые походы да смахивать с глаз слёзы по погибшим сынам. А тут этот молодец…
– Звать меня Акиндином. Из Галича пришёл. Братья двухродные все мои волости под себя сгребли. Вот я и ушёл. Со мною десятка два людей верных, – коротко поведал Нечаю о себе незнакомец.
Старик вздохнул, кивнул седой головой, промолвил в ответ:
– Много тут таких, как ты, хлопче, собирается. Кто волости потерял, кто из кабалы боярской ноги унёс, кто из угров, в рабы идти не захотел.
– И что? Давно ли делами своими славны были берладники? Самый Киев в страхе держали!
– Были дела. Тогда князь у нас был, Иван Ростиславич. Он нас вёл. А ныне сгинул он. Бают[64], отравили. Многим на Руси не был он люб.
– Я слыхал, ты с сим Иваном повздорил крепко, ушёл от него?
– Гляжу, немало обо мне проведал, хлопче, – то ли с одобрением, то ли осуждая, заметил Нечай. – Да, было такое. Не по любу мне стало, когда половцев поганых он на Понизье навёл. Вот и отъехал от него. Поганых на Русь водить – последнее дело.
– А как думаешь, крепка ныне вольница берладницкая? Готова ли на большие дела? – перевёл разговор на другое Акиндин.
– Оно, может, и пошли бы удальцы хоть за сине море, да токмо… Как на духу те скажу: нет в Берладе вождя достойного. Смуты идут. Вот ежели б… Хвастать не хочу, но коли б был помоложе, смог бы, думаю, поднять вольницу в большой поход. На тех же половцев али на угров.
– А что, если круг собрать и предложить?
– Что ж ты предложишь? Корабли грабить? Купцов в плавнях ловить? На Олешье[65] али на Белгород-на-Днестре набег лихой учинить? Биты в прошлый раз были, не пойдут. Остерегутся.
– А если я… если больше… Что там купчишек потрошить? Если через Дунай, в ромейские пределы? Пройтись по Добрудже, по Лудогории. Много там и товару доброго, и скота, и пленных взять можно.
Нечай аж присвистнул от изумления.
– Ну, ты даёшь! Экие у тя замыслы дальние! На ромеев! Опасное дело то, хлопче! Ромеи – они мстительны. Не сами, дак чужими руками зло содеют. Тут подумать крепко надоть[66], прежде чем на круг идти. Вот что. Пошлю я к сотникам, к тысяцким, к ватаманам. Соберёмся у меня, обсудим.
– Добро, – коротко кивнул Акиндин.
Чем-то нравился Нечаю этот, по всему видно, смелый порывистый молодец. Так и проглядывает в нём лихая удаль. Такой, если на что пойдёт, на что решится, не остановится. Ещё Нечай знал: как раз такой и нужен берладницкой вольнице вождь.
…В избе было шумно, сотники и десятники говорили наперебой, не дослушивая друг друга. Одни не хотели связываться с ромейским базилевсом, другие, наоборот, поддерживали Акиндина, баили, что ввязавшийся по горло в кровопролитную войну с уграми император Мануил никак не сможет им сейчас помешать.
От шума звенело в ушах. Акиндин, сурово сведя брови, переводил взгляд с одного крикуна на другого. Десница стискивала эфес харалужной[67] сабли. Хотелось ясности, твёрдого решения, но ясности никакой не было.
«Вот что значит твёрдой руки нету. Орут, и некому их осадить. Да, вольница лихая, необузданная! Не сладить с тобою! А может, так и лучше даже! Когда они врозь, их и подчинить потом будет легче? Кого лестью, а кого и силой», – проносились в голове Акиндина мысли.
Честно говоря, как сейчас быть, что сказать, он не ведал.
В избу, громко хлопнув дверью, влетела запыхавшаяся молодица в мужском наряде – шапке лисьего меха, кафтане, шароварах и высоких угорских сапогах с боднями[68].
– Марья-разбойница! – прокатился по рядам собравшихся шепоток.
Известна была Марья своими жестокими нападениями на приграничные сёла Галицкого княжества. Полонили её люди смердов и закупов, разоряли боярские вотчины, жгли, убивали и всякий раз ловко уходили от погони. В Берладе Марья появлялась нечасто, но вот, видно, услыхав о совете, примчалась, не желая оставаться в стороне от больших разбойных дел.
– Который из вас Акиндин еси! – крикнула она, выскочив на середину избы. – Ты?!
Голос у ватаманши был резкий, звонкий, неприятный, хотя внешностью Господь её не обделил. Высокая была девка, стройная, лицо отличалось правильностью черт – тонкие брови, высокий, но не чрезмерный лоб, обрамлённый каскадом чёрных распущенных волос, прямой тонкий нос. Акиндин, недовольно морщась, выступил вперёд, встал с нею рядом.
– Ты, стало быть, ромеев воевать задумал?!
– Я!
Марья быстро, но с пристальным вниманием оглядела его с ног до головы. Добрый удалец, и статен, и в плечах широк. И держится гордо, не склоняет головы.
– С тобой иду! – выкрикнула внезапно молодица. – Надоело людям моим свиней у смердов галицких угонять да голытьбу сию стрелами калёными потчевать. Жаждут дальних походов!
– И мои такожде[69]! – поддержал Марью Смолята, бывший соратник князя Ивана, ныне выбранный в сотники.
– И мои!
– И мы идём!
– И нам без добычи негоже оставаться! Не хуже прочих! – раздавалось со всех сторон.
Неожиданное вмешательство женщины решило исход совета. Большинство ватаманов и сотников поддержало Акиндина. Только некоторые старые берладники продолжали сомневаться, но и они в конце концов под напором Марьи и своих молодых сотоварищей сдались.
…Походы свои берладники готовили быстро. Собирались в условленном месте, конные и пешие, когда надо, грузились на струги или на конях выступали посуху. Припасы большие с собой не брали, рассчитывали на добытки в разоряемых сёлах, зато поводные вторые кони были у них всегда. Быстрый конь – главная ценность, главный помощник в лихом стремительном набеге.
Несколько дней спустя выступила разноцветно наряженная кто во что рать на юг, в места, где быстротекущий Сирет вливается в многоводный Дунай. Баданы[70], бехтерцы[71], кольчуги, латы, шеломы[72], мисюрки[73] покоились покуда в обозе. Но едва нескладное свиду войско переправится через Дунай на наскоро сколоченных плотах, засверкают доспехи на плечах, заблестят на головах шеломы, заиграют на солнце стальные наконечники острых копий. И начнётся стремительный ярый набег.
…В эти же самые дни в другую сторону от Берлада, на север, нахлёстывая скакуна, мчался галопом вершник. Вёз он в Галич зашитую в кафтан писанную на клочке бересты грамотицу. И уже в Понизье, в Черновицах, тайно собирал князь Ярослав Осмомысл дружину.
Глава 5
Славно потешились в Добрудже и Лудогории берладницкие удальцы. Брали они штурмом укреплённые городки, налетали вихрем на болгарские и валашские сёла, угоняли скот и коней. Грабили купеческие ладьи, отбирали у вельмож дорогие одежды и ценности. Сопутствовала берладникам удача, лишь кое-где в городках оказывали им слабое сопротивление немногочисленные ромейские гарнизоны. Не ожидая с этой стороны нападения, император Мануил увёл большую часть войск в Сербию и Далмацию[74], где сейчас шли ожесточённые бои между Ромеей и уграми. Опустошённые после лихого набега, лежали придунайские области империи, неоткуда было Мануилу ждать подвоза продовольствия для своего войска. Выходило так, что на руку уграм сыграли берладники. Но о том удальцы не думали, набег был их стихией, «за зипунами» готовы были они ходить хоть на край света.
Возвращались назад довольные, обременённые добычей, на тех же плотах перевезлись через Дунай на родную Берладскую сторону. Вот уже и Текуч прошли, уже и пристани Берлада неподалёку.
Акиндина хвалили наперебой, казалось многим, вот он, вождь их, главный ватаман. А что – и умом не обделён, и силушкой Господь наградил щедро. И храбр – первым лез на крепостные стены, врывался в городки через проломы. Многие вспоминали князя Ивана – тот тоже хоробр был и отчаян, да токмо неудачлив. К Акиндину же воинское счастье будто само липло.
…Последнюю ночь перед возвращением в Берлад они встали лагерем на берегу реки. Акиндин сидел у костра, задумчиво глядел на снопы искр, ворошил палкой тлеющие угольки. Свежий веющий с реки ветерок обдувал лицо. Стоял сентябрь, в этих местах ещё тёплый по-летнему, ещё зеленели листвой буки и дубы, ещё не чувствовалось дыхания скорой унылой осени.
Берладники шумно пировали, праздновали успех. Даже связанными меж собой возами с бычьими шкурами не огородили они лагерь. Кто теперь посмеет напасть на них, какой ворог! Враги далеко, а крепость их – всего в одном дне пути!
С холодной усмешкой слушал Акиндин, как беснуется вольница. Что на рати бешены и удалы, что на пиру. И беспечны. Что ж, их то беда.
Марья неожиданно вынырнула из темноты, села возле него, вытянула поближе к огню ноги в высоких угорских сапогах. Смотрела на Акиндина задумчиво, размышляла о чём-то своём. Потом вдруг вымолвила:
– Слыхала я, ты из бояр. Братья тебя наследства лишили. Тако?
– Да.
– Я вот тоже. Отец у меня посадником был в Кучельмине. Князь Ярослав отобрал у него земли все, своему дружку отдал, Семьюнке, коего за рыжий цвет волос да за лукавство Красной Лисицей кличут. Слыхал о таком?
– Слыхал.
– Дак вот сей Лисица отца моего по приказу княжьему повесить велел. Гад! И я… Покуда им не отомщу, не успокоюсь! Где б сей ворог ни укрывался, сыщу и угощу стрелою калёною!
– Брось затею сию, красавица. Месть – она токмо душу губит. Тебе бы… – Акиндин на мгновение замолк, глядя в полыхнувшие удивлением и гневом тёмные очи женщины. – Тебе бы замуж выйти, детей рожать. А что отец твой с князем не поделил – то дело прошлое. Забудь, смирись. Я вот свою братву не то чтоб простил, но отодвинул, что ль, как тебе сказать, посторонь… Иными словами, не думаю и не вспоминаю. Так жить легче!
– Не ждала от тебя речей таких! – Красавица хмыкнула. – Замуж, баишь, детей рожать! Нет, покуда не убью его, не выйду!
– Кого «его»? Красную Лисицу, что ль?
– Нет. Лисица – он сподручник токмо. Выполнил работу грязную, волости за то получил. Князя Ярослава! Он в гибели отца моего виновник главный! С тобою, вижу, мне не по пути!
Резко вскочила Марья, отбежала прочь от костра, лишь тень чёрная мелькнула в звёздной ночи.
И едва скрылась она в темноте, загудела вдруг пронзительно в близлежащем буковом леске боевая труба. Ей вторила другая, со стороны реки. Плотной массой хлынула на стан берладников вооружённая до зубов рать. Сверкали в свете факелов доспехи, шишаки[75], бармицы[76], свистели стрелы, громко ржали кони. Акиндин глянул вдаль. В лагере начиналась резня. Тяжело вздохнув, взмыл Акиндин в седло и ринул с кручи вниз, к реке, к переправе, за которой уже дожидался его верный слуга.
…Убитых и раненых среди берладников было без числа. Погибли в ночной сече почти все ватаманы и сотники. В полон тоже увели немало лихих людишек. Поутру служивый князь Святополк Юрьевич, возглавлявший галицкую рать, объехал поле брани и с удовлетворением отметил, что среди дружинников почти не было потерь. Всего десять убитых – против такой орды лучше и быть не могло. Вот что значит неожиданность и прозорливость.



