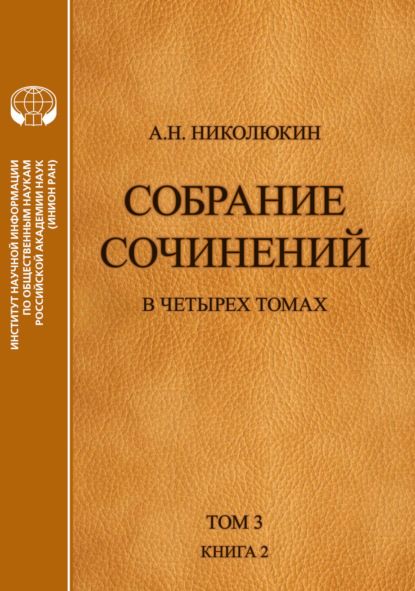
Полная версия:
Собрание сочинений в 4 томах. Том 3, книга 2. Американский романтизм и современность
Брауна часто называют «первым профессиональным американским романистом», подобно тому как Френо – «первым профессиональным поэтом Америки». Однако трагические судьбы обоих писателей, не понятых своим веком, свидетельствуют скорее о том, что американское общество времен ранней республики еще не созрело для настоящей литературы. Как люди, опередившие свой век, Френо и Браун оказались в разладе со своим временем.
В стихах Френо и в романах Брауна литературные традиции XVIII в. переплавляются в романтические формы. Браун освобождал рождающуюся американскую литературу от традиций просветительского романа, открывая дорогу романтизму в литературе. Его мрачные или зловещие герои – Карвин, Ормонд, Клиферо, Уэлбек – предвосхищают появление романтических бунтарей литературы XIX столетия. «Обычные» герои Брауна – семейство Виландов, Эдгар Хантли – дети эпохи Просвещения с ее склонностью к наукам, книгам и ученым беседам.
Однако протест «бунтарей» Брауна превращается в сознательное злодейство или носит весьма поверхностный характер, как у Ормонда, который «относился с постоянным пренебрежением к правилам общения с людьми определенного положения. В этом отношении он вел себя везде так, как будто он был один или разговаривал с хорошо знакомыми людьми. Сами формы обращения “сэр”, “мадам”, “мистер” были, по его понятиям, унизительны и смешны. И поскольку обычай и закон не предусматривали наказания за отказ от принятых форм обращения, он упорно придерживался своих взглядов»[70].
Браун не создал школы романа, хотя его влияние на отечественный роман середины XIX в. несомненно. Прошло два десятилетия, прежде чем стали появляться первые романы Купера.
За это время, отделяющее Брауна от первых американских романтиков, его произведения стали забываться. Еще критики писали о нем статьи в английских и американских журналах, еще издавались его книги, но новые романы Купера, а затем Готорна и Мелвилла все больше и больше вытесняли из памяти читателя «отца американского романа». К концу XIX в. критики утверждали, что романы Брауна имеют только исторический интерес как свидетельство умонастроений в Америке конца XVIII в.[71]
Возрождение интереса к творчеству Брауна происходит в 20-е годы ХХ в., когда начинается переиздание его романов, и особенно в 30-е годы, когда критика обращает пристальное внимание на социальную сторону его книг. К Брауну перестают относиться только как к исторической вехе в истории литературы США. Его книги не оставляют безучастным читателя XX в. Но находит он в них иное, чем современник Брауна.
Так, в 1949 г. университет Флориды опубликовал биографию Брауна, написанную Гарри Уорфелом, который весьма упрощенно трактует Брауна как писателя школы готического романа (что он счел необходимым вынести даже в название своей книги). Разбирая роман «Ормонд», критик приходит к выводу, что героиня Констанция Дадли, в которой воплощается представление Брауна об идеальной женщине и которая восхищала позднее Шелли[72], – скрытая лесбиянка. Она отвергает всех претендентов на ее руку и в результате остается в девицах. Отсюда Уорфел делает глубокомысленный вывод, что «чувство нормальной любви чуждо ее натуре и в ее поведении чувствуется гомосексуальная склонность»[73].
Более серьезная монография о жизни и творчестве Брауна – книга Дэвида Ли Кларка с характерным подзаголовком «Первый литературный голос Америки». Естественное увлечение, с которым написана книга Кларка, очевидно, помешало ему увидеть, что «первым литературным голосом», прозвучавшим в Америке в полную силу, был голос Филиппа Френо, первого профессионального литератора США и «отца американской поэзии», как его справедливо называют многие историки американской литературы. Возможно также, что эта недооценка наследия Френо была порождена тем, что и сам Браун в своей журнальной деятельности выступал литературным соперником Френо и Брекенриджа.
Исследование Кларка дает богатый материал, подтверждающий, что во многих отношениях Браун был впереди своего века. В его произведениях заложены возможности дальнейшего развития американского романтизма. Утверждая эту мысль, Кларк идет еще дальше в попытке связать наследие Брауна с комплексом идей XIX в. «Браун предвосхитил ницшеанского сверхчеловека, стоящего по ту сторону добра и зла. Добро и зло имели для Брауна только терминологическое значение. Браун никогда не был, за исключением отдельных случаев, сторонником ньютоновского понятия моральной вселенной, управляемой законами столь же нерушимыми, как законы физического мира. В этом отношении он был сыном не упорядоченного восемнадцатого, а индивидуалистического, демократического девятнадцатого века, – романтиком. Характеры Брауна, какими бы недостатками они ни обладали, всегда – индивидуумы, а не просто типы. И романы, в которых они действуют, – это, в известном смысле, история их времени»[74].
С Брокдена Брауна начинается долгий путь большого романа в Соединенных Штатах. И чем дальше уходил американский роман от своего первооткрывателя, чем шире становился поток романтических, а затем реалистических, натуралистических, модернистских или социалистических романов, тем несомненнее вырисовывалась историко-литературная роль социально-психо-логических книг Брауна, стоящих у истока одного из основных жанров американской литературы.
Глава третья
Америка Никербокера
А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.
А. Пушкин1Когда речь заходит о литературе американского романтизма, имя Ирвинга называют одним из первых. В России его рассказы читают давно. Вскоре можно будет отметить даже юбилей – стопятидесятилетие со времени знакомства русского читателя с первыми его рассказами, в том числе со знаменитым «Рип Ван Винклем» в переводе будущего декабриста Н.А. Бестужева[75].
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что в русские издания Ирвинга входит едва десятая часть его рассказов, а крупные произведения известны и того менее. Дело здесь, конечно, не в количестве, не в том, что большинство его новелл остаются еще неизвестными русскому читателю, а в одностороннем, обедненном представлении об Ирвинге только как об авторе превосходного «Рип Ван Винкля», рассказов о привидениях, кладоискателях и милых испанских сказок, одна из которых дала Пушкину повод написать свою «Сказку о золотом петушке»[76].
Слава Ирвинга как первого американского писателя значительно превосходит реальное знакомство с его творчеством. В глазах многих критиков и читателей «избранного Ирвинга» он предстает этаким сентиментальным джентльменом, романтическим любителем яркой красочности, мягким юмористом, бегущим от серьезных сторон жизни. Таким стал Ирвинг к старости, таким он желал видеть себя на седьмом десятке лет. Таким запечатлен он в мемуарной литературе и в работах критиков XIX в.
Но был и другой Ирвинг – молодой, сатирически насмешливый, не склоняющийся перед общественным мнением, дерзко бросавший в лицо буржуазному обществу Нью-Йорка непочтительные упреки и насмешки, сдобренные изрядной долей грубоватого народного юмора.
Этого раннего Ирвинга, автора сатирических очерков «Салмаганди» и героикомической хроники «История Нью-Йорка», принято рассматривать как еще незрелого писателя, лишь набирающего силы для своей главной задачи – создания четырех циклов новелл: «Книги эскизов» (1819–1820), «Брейсбридж-холла» (1822), «Рассказов путешественника» (1824) и «Альгамбры» (1832). И, конечно же, прав В.Л. Паррингтон, утверждая, что все лучшие произведения Ирвинга написаны в молодости, а «История Нью-Йорка» остается самым талантливым и выдающимся из его сочинений.
Американская тема в творчестве Ирвинга доныне остается живой частью литературного наследия писателя, публиковавшего свои книги на протяжении полувека.
В конце 1809 г. Ирвинг выпустил в свет «Историю Нью-Йорка». Написанная от имени мифического Дидриха Никербокера, этого воплощения старой патриархальной Америки колониального периода, «История Нью-Йорка» – романтическая поэтизация американской старины. Ирвинг рассказывает, как он был изумлен, обнаружив, что лишь немногим из его сограждан было известно, что Нью-Йорк когда‐то был голландской колонией и назывался Новым Амстердамом. «И тут я неожиданно понял, – продолжает он, – что то была поэтическая эпоха в жизни нашего города, поэтическая по самой своей туманности, и, подобно далеким и туманным дням древнего Рима, представляющая широкие возможности для всяческих украшений, обычных в героическом повествовании»[77].
Так возник замысел «облечь предания о нашем городе в забавную форму, показать местные нравы, обычаи и особенности, связать привычные картины и места и знакомые имена с теми затейливыми, причудливыми воспоминаниями, которыми так небогата наша молодая страна, но которые составляют очарование городов Старого Света, привязывая сердца их уроженцев к родине» (292).
Прием «найденной рукописи», столь удачно использованный Ирвингом во вступительном очерке к книге, не был новинкой в литературе. Сервантес и Свифт, любимые писатели Ирвинга, уже использовали его, а Чарльз Брокден Браун в предисловии к своему роману «Виланд» уверяет читателей, что публикует письма героини к друзьям о роковых событиях, свидетельницей которых она стала.
Но особенно популярным сделался этот прием после ирвинговской «Истории Нью-Йорка». Уже в 1824 г. Джеймс Фенимор Купер в предисловии к задуманной им серии романов об истории Соединенных Штатов пародирует Ирвинга: «Автор торжественно заявляет прежде всего, что никакой неведомый человек не умирал по соседству с ним и не оставлял бумаг, которыми автор законно или незаконно воспользовался. Никакой незнакомец с мрачной физиономией и молчаливым нравом, вменивший себе молчание в добродетель, никогда не вручал ему ни единой исписанной страницы. Никакой хозяин гостиницы не давал ему материалов для этой истории, чтобы выручкою за использование их покрыть долг, оставшийся за его жильцом, умершим от чахотки или покинувшим сей бренный мир с бесцеремонным забвением последнего счета, т. е. на его похороны»[78].
Тем не менее художественный прием «найденной рукописи» еще долгие годы оставался живым в американской литературе. В 1850 г. его использовал Натаниел Готорн во вступительном очерке к роману «Алая буква»: автор уверяет, что нашел среди бумаг давно умершего таможенного надзирателя Джонатана Пью историю Бостона XVII в. и разыгравшейся там трагедии. Так дух неугомонного Дидриха Никербокера, автора романтических историй о далеком прошлом своей родины, вновь воскрес, на этот раз под именем досточтимого мистера Пью.
Склонность к мистификации не покидала Ирвинга и позднее. Свою «Хронику завоевания Гренады» (1829) он выпустил под псевдонимом монаха-летописца Антонио Агапиды, испанского Никербокера, воплотившего в себе дух рыцарства и веру средневекового фанатика.
Академик М.П. Алексеев отмечает, что в начале XIX в. мотив «находки рукописей» был в повсеместном употреблении то в серьезных, то в сатирических целях, то просто ради повышения занимательности повествования[79]. В предисловии к роману «Монастырь» Вальтер Скотт не без иронии указывал на неумеренное употребление подобной завязки в повествованиях, лишающее их в конце концов правдоподобия и слишком отзывающееся традиционной схемой, готовым штампом.
За два года до «Истории Нью-Йорка» и в том самом году, когда начали печататься первые очерки из сатирической серии «Салмаганди», выпускаемой Ирвингом, его старшим братом Вильямом и будущим известным американским писателем Джеймсом Полдингом, появилась обширная поэма Джоэла Барло «Колумбиада». Поэт, участник американской революции, хотел воспеть историю молодого государства, за свободу которого он сражался. Еще в 1787 г., воодушевленный идеей создания американского национального эпоса, он опубликовал поэму «Видение Колумба», где в руссоистском духе изображает индейцев и ранние поселения белых колонистов Северной Америки.
В своем стремлении создать американский национальный эпос Барло, как и другие авторы ныне забытых героических эпопей, появлявшихся в годы американской революции, обратился к эпическому опыту европейских литератур. С эпической поэмы «Растущая слава Америки» (1772) начинал и «отец американской поэзии» Филипп Френо.
Литературная борьба тех лет знает не только героические эпопеи, но и комические пародии на них. Исторический материал подвергался в них ироническому переосмыслению. Эта традиция в сочетании с юмористическими «шендизмами» молодого Ирвинга, увлекавшегося книгами Л. Стерна, легла в основу жанра «Истории Нью-Йорка».
Первый опыт героикомического повествования, получившего затем блестящее развитие в «Истории Нью-Йорка», Ирвинг предпринял в «Салмаганди». Политическая сатира на местном нью-йоркском материале сближает эти очерки с «ученым трудом» Никербокера. В № 17 «Салмаганди» упоминается один из участников воспетого затем в «Истории Нью-Йорка» похода Питера Твердоголового против шведов – закоренелый богохульник Ван Дам, воинская слава которого не дошла до наших дней только потому, что он был слишком скромен и не решился совершить ничего такого, о чем бы стоило говорить в позднейшие времена.
Вслед за этим рассуждением о доблести Ван Дама в «Салмаганди» следует отрывок из «Хроники достославного и древнего города Дураков», которая непосредственно вводит нас в атмосферу «Истории Нью-Йорка».
Этот неумирающий дух никербокерства, веселого юмора и острой сатиры с современной политической направленностью вызывал восхищение современников. Колридж читал «Историю Нью-Йорка» не отрываясь, всю ночь напролет, Диккенс перечитывал ее постоянно.
В.Л. Паррингтон писал о никербокеровской «Истории Нью-Йорка»: «Веселье юности искрится и сверкает на ее волшебных страницах, бросая вызов всеуничтожающему времени. Критики могут обвинять позднего Ирвинга в многочисленных серьезных недостатках, но порывы критических ветров не в состоянии развеять романтические клубы дыма, поднимающиеся от трубки Воутера Ван Твиллера»[80]. Трудно не согласиться с этим мнением, прочитав забавную и поучительную, комическую и трагическую историю возникновения, расцвета и гибели славной голландской колонии Новый Амстердам.
Разумеется, шуточную «Историю Нью-Йорка» нельзя назвать историей в собственном смысле этого слова. Между тем в книге Ирвинга больше подлинного историзма, чем в каком-либо из многочисленных ученых трактатов, написанных американскими буржуазными историками за три века существования города и штата Нью-Йорк.
«История» Никербокера представляет собой характерное явление раннего американского романтизма. В ней прежде всего сказывается пародирование рационалистической традиции классицизма, отношения к истории как учебнику и наставнику жизни, стремления представить и осмыслить общественную жизнь на примерах и образах, почерпнутых из античности. Отсюда постоянное обращение Никербокера к гомеровскому циклу, к Греции и Риму, с которыми сопоставляется история голландской колонии Новый Амстердам. Даже частые параллели с артуровским циклом, возникающие в книге Ирвинга, используются в целях травестирования.
При общей просветительной трактовке удивительных и забавных событий, происшедших в Новом Амстердаме, в книге есть один безусловно романтический образ, придающий красочность самым, казалось бы, сухим и скучным страницам жизни старой голландской колонии. Это сам Дидрих Никербокер, с загадочного исчезновения которого начинается рассказ о появлении на свет «Истории Нью-Йорка». Его предки выступают в хронике участниками рыцарских деяний Питера Твердоголового, а сам он долго еще не может распроститься с читателем на последних страницах, когда эта «единственная достоверная история тех времен из всех, которые когда-либо были и будут опубликованы», уже закончилась.
В Дидрихе Никербокере много общего с самым известным литературным героем Ирвинга – Рипом Ван Винклем, созданным, по уверению писателя, тем же Никербокером[81]. Оба они бегут из мира американской действительности в царство романтической фантастики, легендарного прошлого времен Хендрика Гудзона. Там, в патриархальном голландском Новом Амстердаме своей мечты, находят они то, чего не хватает им в современном обществе, в Америке бизнеса и денежного расчета. Но и там, в далеком прошлом времен Питера Твердоголового, происходят бесконечные раздоры, подобные борьбе федералистов и демократов – двух американских партий, к которым молодой Ирвинг, несмотря на его, казалось бы, федералистские симпатии, относился с равным презрением.
Может быть, самая характерная черта персонажей Ирвинга, таких как Никербокер, Рип Ван Винкль или незадачливый герой «Легенды о Сонной Лощине» Икабод Крейн, – в том, что все они куда‐то уходят, оставляя позади современную Америку. Так уходили на Запад американские пионеры, оставляя буржуазную цивилизацию.
Ирвинг-романтик не мог найти свой идеал в современной ему буржуазной Америке. Подернутое дымкой фантастики прошлое неудержимо влекло и притягивало к себе летописца трех голландских губернаторов Нового Амстердама. «Настоящее представлялось Ирвингу менее интересным, чем прошлое, и, конечно, менее красочным, – замечает В.Л. Паррингтон. – Он не мог примириться с духом торгашества и спекуляции. Заботы этого мира не волновали его. В глазах Ирвинга трубка старого Дидриха Никербокера стоила гораздо больше, чем весь новый Уолл-стрит, а черная бутылка, принесшая столь необычайные приключения Рипу Ван Винклю, казалась ему более реальной, чем умирающий федерализм, судорожно цеплявшийся за остатки своих надежд, или буйная демократия, обряженная в засаленную одежду»[82].
В «Истории Нью-Йорка» Ирвинг создает романтическую мифологию истории, окружая давно прошедшие события ореолом привлекательности. И в то же время из-под его пера выходит острая пародия на романтическое понимание истории, складывающееся в начале XIX в.
Американские критики сразу оценили современное звучание «Истории» Никербокера. Один из бостонских журналов писал в связи с выходом «Истории», что это «добродушная сатира на безумия и ошибки наших дней и проблемы, ими порожденные»[83].
С неподражаемым юмором описывает Ирвинг в сущности весьма горестные для американского народа раздоры партий квадратноголовых (т. е. федералистов, «лишенных округлости черепа, которая считается признаком истинного гения») и плоскозадых (республиканцев, «не обладавших природным мужеством или хорошим задом, как это впоследствии технически именовалось»).
После американской революции фермеры и ремесленники попали в социальную и политическую кабалу к тем самым плантаторам и крупной буржуазии, против английских собратьев которых они сражались в годы революции. «Когда державный народ запряжен и на него надлежащим образом надето ярмо, – саркастически резюмирует беспристрастный Никербокер, – приятно видеть, как размеренно и гармонично он движется вперед, шлепая по грязи и лужам, повинуясь приказаниям своих погонщиков и таща за собой жалкие телеги с дерьмом, принадлежащие всяческим партиям» (136).
Писатель как бы угадывает будущие черты американской двухпартийной системы. В условиях политической борьбы его времени, выступая против Джефферсона и «державного народа», он все же был скован предубеждениями федералистского толка.
В критике американской демократии Ирвинг на тридцать лет предвосхитил Купера, хотя и не поднялся до широты его социальных обобщений. Он высмеивает «великие гарантии» существования Соединенных Штатов – свободу слова и свободу совести, которые на деле означают лишь то, что каждый человек может придерживаться собственного мнения при условии, если это мнение правильно. «И вот, – продолжает честный историк Никербокер, – так как они (большинство) были совершенно убеждены, что только они думают правильно, то из этого следовало, что те, кто думал иначе, чем они, думали неправильно; а кто думал неправильно и упорно противился тому, чтобы его убедили и обратили в истинную веру, был гнусным нарушителем неоценимой свободы совести, гниющим и распространяющим заразу членом общества, заслуживающим, чтобы его отсекли и бросили в огонь» (96–97).
Как созвучны эти строки памфлету Купера «Американский демократ» (1838) с его острой критикой демагогической демократии буржуазного «большинства»! Ирвинг высмеивает претензии старого, отживающего, которое цепко держится за свои привилегии и не дает расти новому, молодому. В свойственном ему насмешливом тоне он критикует систему американской демократии в ее бесчисленных антигуманистических проявлениях. Правительство, которое неуклонно руководствуется правилом: «правителю несомненно более пристало быть настойчивым и последовательным в заблуждениях, чем колеблющимся и противоречивым в старании поступать правильно», суд, пресса, американский конгресс, – все подвергается беспощадному осмеянию.
Подобное отношение к демократии доллара Ирвинг сохранил и в зрелом возрасте. Вернувшись в 1832 г. в США после семнадцатилетнего пребывания в Европе, он пишет: «Чем дольше я наблюдаю политическую жизнь в Америке, тем большим отвращением к ней я проникаюсь… Столько в ней грубости, вульгарности и подлости в сочетании с низкими приемами борьбы, что я не хочу принимать в ней участия»[84].
Центральное место в «Истории Нью-Йорка» занимают образы трех голландских губернаторов Нового Амстердама. Если в первых двух книгах «Истории» писатель высмеивает ученых-педантов, то с третьей книги, где описывается «блестящее правление Воутера Ван Твиллера», начинается своеобразное историко-комическое травести. Так, в Воутере Сомневающемся, имевшем обыкновение при решении всякой проблемы заявлять, что «у него есть сомнение по этому вопросу», современники угадывали намеки на президента Адамса; в сменившем его Вильяме Упрямом – черты Томаса Джефферсона, а в правлении доблестного Питера Твердоголового, которому посвящена добрая половина книги, – новейшие события из жизни США, когда в 1808 г. президентом был избран Мэдисон и начался отход от джефферсоновской демократии. Вся книга носит весьма злободневный и полемический характер.
Сатира и юмор органически сочетаются в этой истории голландских правителей Нью-Йорка, приобретая черты то мюнхаузенского бахвальства, то горькой иронии. Серьезное и смешное сплелись в книге Никербокера так же неразрывно, как имя его легендарного автора с его детищем – «Историей Нью-Йорка».
Стиль ирвинговского повествования то героически возвышенный, то бурлескно-пародийный; склонность Никербокера к философским рассуждениям по поводу событий, описываемых в «Истории», а еще чаще о вещах, не имеющих к ней никакого отношения; романтическая идеализация прошлого Нью-Йорка в сочетании с элементами буффонады – все это определяет жанровые особенности книги как героической хроники.
Весь рассказ о «грандиозной» битве у крепостных стен форта Кристина (кн. VI, гл. 7), во время которой с обеих сторон не погибло ни одного человека, если не считать толстого голландца, скоропостижно скончавшегося из-за несварения желудка, исполнен нескрываемым комизмом. Впрочем, объевшийся до смерти толстяк вскоре был объявлен достойным вечной славы как павший за родину смертью храбрых.
Так происходит пародийное снижение героического материала, и трагедия оборачивается фарсом, разыгрываемым на подмостках американской истории.
Мюнхаузенско-шильдбюргерские мотивы постоянно возникают в «Истории Нью-Йорка». Губернатор Вильям Кифт, славившийся своими нововведениями и опытами, строит ветряную мельницу для защиты города от врагов или создает патентованные вертелы, приводимые в движение дымом, и телеги, едущие впереди лошадей. Даже смерть его предстает в гротескно-комическом обличье. Согласно одной из легенд, он сломал себе шею, свалившись из чердачного окна ратуши при безуспешной попытке поймать ласточку, насыпав ей на хвост щепотку соли.
И только однажды забывает Ирвинг о героикомическом духе своей книги: когда он описывает красоту своей любимой реки Гудзон (кн. VI, гл. 3), противопоставляя ее «нашему вырождающемуся веку». Романтическое мироощущение молодого писателя получает выход в гимне величью природы, царившему на берегах могучей реки, населенных индейцами, пока новые буржуазные порядки не наложили своего отпечатка на всю страну.
Молодого Ирвинга волновала трагическая судьба американских индейцев. Требование белых колонизаторов: «Дикарь должен уйти», – получило позднее еще более откровенное выражение: «Хорош только мертвый индеец». Шло поголовное истребление американских аборигенов.
Страницы «Истории Нью-Йорка», посвященные индейской проблематике, особенно глава пятая первой книги, открывают целую линию в творчестве Ирвинга – обличение жестокостей и несправедливостей, совершавшихся белыми колонизаторами на протяжении всей истории Америки. Эти мысли, высказанные сначала в «Истории Нью-Йорка», получили в дальнейшем развитие в двух очерках, опубликованных в 1814 г. и вошедших затем в «Книгу эскизов» Ирвинга («Черты индейского характера» и «Филипп Поканокет»).



