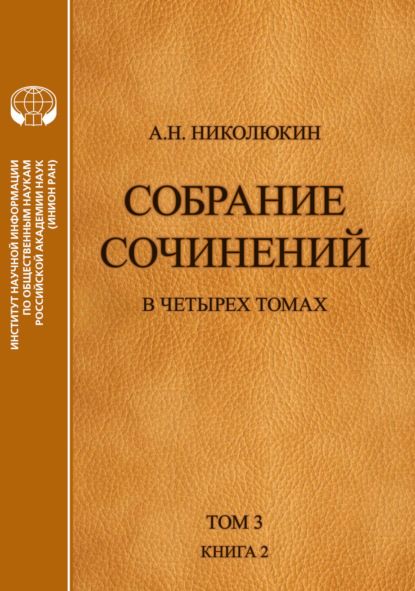
Полная версия:
Собрание сочинений в 4 томах. Том 3, книга 2. Американский романтизм и современность
Сопоставление куперовских индейцев с образами Френо убеждает, что существовала определенная преемственность романтического ви́дения и изображения «естественных людей» Америки. Эта связь романтической трактовки индейцев Купера с поэзией Френо, на которую до сих пор не обращалось внимания, имеет важное значение при решении вопроса о формировании американского романтизма и изображении «фронтира» (жизни пограничных с индейцами районов) в американской литературе.
Френо решительно вводит в круг американской демократической поэзии романтическое прославление индейцев, воспевание их образа жизни, обычаев и нравов, их легенд и наскальных изображений. С особой поэтичностью и неподдельной теплотой пишет поэт об индейцах в стихотворении «Индейское кладбище» (1788). Под пером поэта оживает мир легенд и преданий древнейших жителей Америки.
Когда с полуночного небаСияет полная луна —Индейская царица ШебаЗдесь бродит по лесам одна.Рогами рассекая ветки,Бежит стремительно олень.Охотник бьет стрелою метко,Но, как олень, и сам он – тень.Легендой бродит по рассказамУмерший вождь, держа копье,И верит суеверно разумВ их призрачное бытие.(Пер. М. Зенкевича)Эта традиция глубоко сочувственного изображения индейцев в американской литературе получает дальнейшее развитие в романах Купера и поэзии Брайента, в индейском цикле романтических стихов Лонгфелло, завершающемся национальной эпопеей «Песнь о Гайавате», и в вышедших одновременно с ней «Листьях травы» Уитмена. Поэзия Уитмена и Лонгфелло развивает многие демократические мотивы творчества Френо и в полную силу выявляет поэтическую плодотворность большой национальной темы, поднятой за многие десятилетия до того отцом демократической американской поэзии.
Заслуга Френо в создании национальной поэзий становится тем очевиднее, чем яснее представим мы себе, что до него в Северной Америке были либо рифмованные религиозные проповеди типа популярной в XVII и XVIII вв. книги Майкла Вигглсворта «День Страшного суда», либо любительские вирши Анны Брэдстрит и ряда других поэтов, рабски следовавших английской литературной традиции.
Будучи поэтом переходного периода, Френо сочетал в своей поэтике тенденции классицизма и революционного романтизма. При сравнении с современниками и предшественниками он выглядит часто как поэт-романтик, а в ряду американских поэтов-романтиков выделяется своей связью с наследием классицистической поэтики XVIII в.
Истинное историческое значение Френо в становлении национальной литературы США определяется теми широкими демократическими горизонтами, которые он открыл перед ней. «Только помня о том, что в те дни защита идей демократии несла такое же клеймо, как идей коммунизма в нынешней буржуазной Америке и Европе, – писал американский журнал “Модерн мансли”, – мы можем по-настоящему оценить трудности и суровость той борьбы, которую вел Френо, отстаивая свои принципы»[43].
Художественная проза в силу многих причин не получила развития в годы Войны за независимость. Историческая специфика литературного процесса в Америке заключалась в преимущественном развитии на первом этапе поэзии и отчасти публицистики. Именно поэзия, политическая гражданская поэзия по преимуществу, стала первым национальным жанром литературы США. И хотя в 90-е годы XVIII в. появился американский просветительский роман Хью Брекенриджа «Современное рыцарство» и несколько романов Чарльза Брокдена Брауна, до Купера ведущее место в американском литературном процессе занимала поэзия.
В начале XIX в. на смену стареющему Френо приходят новые молодые поэты и среди них наиболее талантливый – Вильям Келлен Брайент (1794–1878), один из первых поэтов-романтиков, продолжавших демократические традиции литературы эпохи революции и романтические поиски Френо. Отражая, как и Френо, разочарование в плодах американской революции, Брайент создает в своей поэзии культ свободного, «естественного человека», близкого к природе. Поэтизация американской природы, дикого приволья прерий сочетается у Брайента с ярко выраженным романтическим протестом против городской цивилизации. В его «Охотнике прерий» картина американской природы органически связана с темой свободы и человеческого достоинства:
Вот где свобода! Черным дымом
Здесь трубы неба не коптят,
И по целинам нелюдимым
Сбирает ветер аромат.
Верхом с ружьем в пустыне прерий,
С ней, бросившей мир для меня,
Кочую по траве, как звери,
Охочусь – и свободен я!
(Пер. М. Зенкевича)
Брайент был воспитан на литературной традиции американской революции. Образы и сюжеты из истории Войны за независимость привлекали к себе внимание поэта своим мужеством и свободолюбием («Песня людей Мариона»).
Через свою долгую жизнь Брайент пронес свободолюбивые идеи своей молодости, идеи американской революции. Традиция революционного романтизма, родившаяся в стихах Френо, продолжала жить в стихах Брайента.
Демократическая направленность творчества поэтов американского раннего романтизма нашла завершение в гражданственной поэзии XIX в. Возникнув на основе американской революции, живительное воздействие которой ощущалось вплоть до Гражданской войны, американский романтизм стал первым национальным вкладом США во всемирную литературу. Вопросы международного признания американского романтизма подводят нас к проблеме романтической прозы.
Наследие американской революции, хотя и по-разному толкуемое различными представителями романтизма в США, стало для них школой художественного мышления. От Френо до Уитмена простирается полувековая история американского романтизма – период становления национальной литературы Соединенных Штатов.
Глава вторая
Рождение романтизма в прозе
Бывают странны сны, а наяву страннее.
А. ГрибоедовПервый американский роман появился в Бостоне в год рождения Купера. Это была книга с характерным для сентиментального романа названием «Сила сострадания» (1789) Вильяма Хилла Брауна. Как отмечалось в предисловии, здесь изображались «роковые последствия совращения невинности». Этот полуготический роман изобилует сценами насилия, похищения и самоубийств. Даже для своего времени, когда подобные книги не были редкостью, он был признан «слишком соблазнительным» и запрещен, а большая часть тиража уничтожена.
В 90-е годы появляется несколько американских романов в духе Ричардсона или английских «готических» романов. В одном из них, переиздававшемся вплоть до Гражданской войны, повествуется о злосчастной судьбе английской девицы, завлеченной надеждой на замужество в Нью-Йорк, где она оказывается покинутой своим любовником и умирает от родов («Шарлотта Темпл» Сусанны Роусон, 1791). Столь же трагична и поучительна для американских девиц конца XVIII в. была история главной героини романа Ганны Фостер «Кокетка» (1797) Элизы Уортон, доверившей свою невинность блестящему молодому офицеру и тоже скончавшейся от родов в одной из таверн штата Массачусетс.
Ричардсоновская традиция не была единственной. С 1792 г. отдельными выпусками выходит первый в Америке сатирико-бытовой роман – «Современное рыцарство» (1792–1815) Хью Брекенриджа. Два главных героя этого многотомного романа – странствующий философ капитан Фарраго и его неграмотный слуга-ирландец Тиг О’Реган живо напоминают Дон-Кихота и его верного слугу Санчо Пансу. Плутовские похождения Тига О’Регана дают пищу для философских размышлений о пороках, процветающих в молодой американской республике, о злоупотреблениях и несправедливостях, допускаемых государственной властью.
В речах капитана Фарраго нередко слышится взволнованный голос самого автора, прошедшего школу социально-политической борьбы в годы американской революции и позднее, когда Брекенридж сменил облачение священника в войсках Вашингтона на судейскую мантию в Питтсбурге. В своем романе Брекенридж подвергает осмеянию честолюбивых невежд, охваченных желанием пробиться к власти. В его книге мы находим одно из наиболее ранних в американской литературе сатирических описаний выборов, во время которых «всем управляют деньги».
Книгу Брекенриджа долгое время считали завуалированной сатирой на демократию вообще. Ошибочность такого толкования была вскрыта В.Л. Паррингтоном, который писал в 1927 г., что подобная точка зрения восходит к старым предрассудкам федералистской критики. Паррингтон первым дал исторически верную оценку демократизма Хью Брекенриджа: «Стойкий и убежденный демократ, он не был склонен закрывать глаза на неприглядные факты, подобно тем, кто боялся, что эти факты разрушат их веру. Когда Брекенридж рассматривал бурные события, происходившие в Америке в период трудного процесса ее демократизации, он видел зло не менее ясно, чем мелькавшую впереди надежду, и ему доставляло удовольствие подвергать это зло сатирическому осмеянию в манере “Дон-Кихота”… Мы скорее можем поступиться другими, более претенциозными произведениями нашей ранней литературы, чем этими умными сатирами, которые сохранили для нас картины некрасивых сторон жизни того времени, когда американское государство находилось в стадии своего становления»[44].
Однако если «Современное рыцарство» в художественном отношении было типичным просветительским произведением с ярко выраженными чертами плутовского романа, то появившиеся на самом исходе XVIII в. книги Чарльза Брокдена Брауна (1771–1810) знаменуют наступление предромантизма в прозе. Его романы – прямые предшественники прозы Ирвинга, Купера и Эдгара По.
Брауна-романиста интересовали прежде всего трагические коллизии человеческого бытия. В «Виланде» изображено безумие, чревовещание и религиозный фанатизм, в «Ормонде» – бедность и чума, в «Артуре Мервине» – желтая лихорадка и жажда обогащения, в «Эдгаре Хантли» – сомнамбулизм и столкновения с индейцами, в двух последних романах Брауна – «Клара Гоуард» и «Джейн Тальбот» – горячо дебатировавшиеся в те времена вопросы женского равноправия.
Уже в первом романе Брауна «Виланд, или Превращение» (1798) проявились основные черты художественной манеры писателя: острая напряженность повествования, сближающая книги Брауна с готическими романами, психологическая характеристика героев, рассчитанная прежде всего на эмоциональное воздействие, продолжение традиции чувствительного романа в письмах. В предисловии автор предуведомляет читателей о жанре своего романа: «Это повествование в эпистолярной форме адресовано молодой женщиной небольшому кругу ее друзей».
Стиль Брауна во многом обязан европейской традиции сентиментализма. Характерно в этом отношении начало главы, где появляется зловещая фигура чревовещателя Карвина, несущего с собой разрушение пасторальной идиллии семейства Виланда. Мистические «голоса», которыми Карвин запугивает простодушного американского колониста Теодора Виланда, его жену, ее брата Плейеля и Клару – сестру Теодора, от имени которой ведется повествование, – заставляют всех их метаться как обезумевших в горящем доме и убивать друг друга и самих себя. Повествование приобретает стремительность, героев охватывает страстный порыв, желание вырваться из таинственной паутины, которой оплетает всех Карвин.
В романе сплетаются две стилистические тенденции – сентиментальная и взволнованно-романтическая. В начале шестой главы, подготовляющей появление Карвина, Клара говорит: «С дрожью отвращения обращаюсь я к рассказу о человеке, чье имя вызывает самые острые и бурные чувства. Только теперь начинаю я сознавать трудность той задачи, которую поставила перед собой; но отступать было бы слабостью. Кровь стынет в жилах и пальцы немеют, когда воскрешаю перед собой его образ. Позор моему слабому и трусливому сердцу! До сих пор я писала с достаточным хладнокровием. Теперь пора остановиться. Не потому, что ужасное воспоминание лишает меня смелости и расстраивает мои замыслы, а потому, что эта слабость не может быть сразу побеждена. Я должна на время отвлечься»[45].
Брауна интересуют явления, стоящие на грани сверхъестественного, загадки природы, над разрешением которых с бо́льшим или меньшим успехом билась наука в дальнейшем.
Американская литература начиналась с описаний насилия, ужасов. Это было следствием, с одной стороны, недавних событий Войны за независимость, а с другой – грозной и устрашающей действительности нового общества, надвигавшейся на американцев, ставших свидетелями гибели патриархальной Америки XVIII столетия.
В предисловии к роману Браун излагает принципы «тенденциозного романа» (the novel of purpose), получившего развитие у Годвина, Голкрофта и Бейджа, переосмысленные Брауном на американской почве. Отвергая условности «готических» романов и сентиментальные истории о любви, Браун утверждает основы, на которых, по его мнению, должна создаваться американская художественная проза. Он пишет: «Не будем возражать, что случаи, подобные изображенному, редки, и именно поэтому дело художника нравов изобразить их сущность в наиболее поучительной и запоминающейся форме. Если история предоставляет хотя бы один подобный факт, это уже достаточное оправдание для писателя. Большинство читателей, вероятно, припомнят подлинный случай, удивительно схожий с историей Виланда»[46] (7–8).
Интересно отметить, что, когда Браун послал свой роман в подарок Томасу Джефферсону, автор Декларации прав человека в своем ответе коснулся тех же вопросов соотношения реального и вымышленного в произведении искусства. «Некоторые из наиболее приятных часов моей жизни прошли в чтении художественной литературы, которая имеет то превосходство над историей, что события первой могут быть одеты в самые привлекательные костюмы, тогда как события последней должны быть прикованы к факту. Они не могут обладать высшей формой добродетели и худшими формами порока, как события художественной литературы»[47].
Явления, стоящие на грани чудесного, о которых говорится в предисловии, начинаются еще в предыстории романа. Браун рисует религиозно-фанатическую среду, в которой формировался характер молодого Виланда. Его отец эмигрирует из Германии[48], чтобы посвятить свою жизнь обращению американских индейцев в христианство. Проведя много лет среди дикарей в долине реки Огайо, он поселяется в конце концов на берегах Скулкилла, вблизи Филадельфии. Не признавая общепринятых форм веры и богослужения, он возводит на высоком холме над рекой маленький храм (идея которого так восхитила позднее Шелли), где молится в одиночестве днем и ночью. Вскоре он гибнет при весьма таинственных обстоятельствах.
Однако это необычное событие, открывающее роман, служит только введением к цепи таинственных происшествий, объяснившихся в конце концов чревовещательными экспериментами Фрэнсиса Карвина, преступника, бежавшего из дублинской тюрьмы. В опубликованных через несколько лет после «Виланда» «Мемуарах Карвина» рассказывается о юношеских годах этого человека, проведенных в Ирландии. Воспитанный аристократом Лудло, участником ирландского революционного движения, Карвин должен был стать, по замыслу Брауна, воплощением годвинских идей.
«Моя жажда знаний усиливалась по мере ее удовлетворения, – говорит о себе Карвин. – Чем больше я читал, тем беспокойнее и непреодолимей становилось мое любопытство. Мои чувства были постоянно открыты для всего нового, мое внимание привлекали к себе явления таинственные или неведомые»[49].
Однако образ годвинского героя остался незавершенным. Писателя увлекло описание деятельности тайных религиозных сект с их мистическими обрядами. Браун изобразил злодея, человека, стоящего «над грубыми головами простолюдинов» и предписывающего условия существования для человечества. Однако из-за незавершенности «Мемуаров», работа над которыми была прервана эпидемией чумы, разразившейся в Нью-Йорке осенью 1798 г., смысл деятельности и цели Карвина остаются для читателя неясными.
Герои романа Брауна живут и действуют в предреволюционной Америке. В предисловии к «Виланду» Браун говорит о времени действия романа: «Описанные события произошли между заключением мира с французами и началом революционной войны». Чувство времени, больших исторических событий, происходящих в мире, постоянно ощущается в романе.
Реалистическое мастерство писателя сказывается в эпизодических сценах городской жизни Филадельфии, которую время от времени посещают герои романа. Однако основная линия и характер повествования – типично предромантические. Картины реального мира уступают место внутренним переживаниям героев, что отнюдь не противоречит сюжетности повествования.
Изображение религиозного фанатизма и его трагических последствий, пронизывающее роман, сменяется темой мнимого совращения Клары. Карвин, став любовником служанки, пытается соблазнить и ее хозяйку. После неудачи своего ночного визита в комнату Клары Карвин при помощи дара чревовещания имитирует сцену обольщения, чтобы вызвать ревность Плейеля, который любит Клару.
В отличие от авторов «готических» романов, охотно разрабатывавших мотивы таинственного, ужасного, заполнявших страницы своих романов сценами убийств и совращений, чтобы приковать внимание читателя и довести его до нервного возбуждения, Браун решает подобные темы в психологическом плане. Болезнь духа и тела были для него гораздо более зловещими факторами, чем «готические замки и плоды необузданной фантазии». Вместо сверхъестественных явлений, наполнявших «черные» романы того времени, Браун описывает расстройство психической деятельности человека, безумие, порождающее мир причудливого и ужасного. Недаром Браун с большим интересом читал медицинские журналы, выискивая в них подобные истории. Психологическая мотивированность временного помешательства, правдивая, вплоть до деталей, поражает в романах Брауна и сегодняшнего читателя.
Психологическая обусловленность поступков героев – это наиболее ценная сторона художественного наследия Брауна, «отца американского романа». Эта особенность его книг сохраняет свое значение до наших дней, когда романы Брауна, мастера психологически острого сюжетного повествования, начинают вновь переиздаваться.
Морально-философский смысл романа раскрывается в исповеди Карвина перед Кларой. Его чревовещательные опыты, невинные поначалу, приводят к убийству жены и детей Виланда, а затем самоубийству самого Виланда. «И все же моя злосчастная судьба не сделала меня причиной ее смерти, – рассуждает Карвин об убийстве жены Виланда. – Однако, не приведи я необдуманно в движение механизм, над которым я утерял власть, восторжествовало ли бы небытие?» (244).
Как утверждают, эта тема дала Мэри Шелли идею для ее «Франкенштейна»[50]. Многие современные писатели и ученые, никогда не читавшие Брауна, могли бы обнаружить в этой мысли романа родственную идею, волнующую людей середины XX в.
Рассказ о семействе Виландов – это история превращения процветающего дома американских фермеров в юдоль печали, а самого Виланда – в мужа скорбей. Основная линия повествования обрамляется в романе побочной историей родителей Луизы Стюарт, которая живет в доме Виланда и гибнет вместе с его женой и детьми. Эта вторая линия играет роль моральной параллели к основному сюжету. История гибели отца Луизы Стюарт, пожелавшего отомстить Максвеллу, соблазнителю его жены, и павшего от руки наемного убийцы, в морально-философском плане схожа с судьбой Виландов.
Тема превращения добра в зло – одна из ведущих в романе. «Зло, совершенное Карвином и Максвеллом, было порождено заблуждениями тех, кто пострадал от него» (275), – утверждает в заключение Браун. Если бы жена Стюарта уняла свои роковые страсти и прогнала своего соблазнителя, когда его намерения стали очевидны; если бы Стюарта не обуял дух «глупой мести», не произошла бы трагическая развязка; если бы Виланд не был религиозным фанатиком, то пророческое чревовещание Карвина было бы раскрыто и он с позором был бы изгнан. Такие выводы делает сам писатель.
Одна из характерных особенностей художественной манеры Брауна состоит в том, что образы и события его романов допускают различные толкования. Это относится прежде всего к явлениям, кажущимся сверхъестественными. Так изложение событий, описываемых Кларой Виланд, затем подвергается тройному перетолкованию. Плейель рассказывает о том, чему он стал свидетелем ночью, когда Карвин «соблазнил» Клару. Теодор Виланд на суде сообщает свою версию, не менее правдивую, чем все остальные, и наконец Карвин чистосердечно сознается в своей причастности к трагедии семейства Виландов.
Эта многоплановость толкования событий, используемая Брауном и в других его романах, широко применялась впоследствии американскими романтиками.
В отличие от классицистического рационализма, видящего явление в определенном свете, четко различающего добро и зло, Браун пытался взглянуть на людей и события с разных, иногда противоположных точек зрения. Предромантическая проза Брауна не знала эстетической устойчивости. Она как бы раздваивалась между кажущимся и реальным. В этом основа эстетической концепции писателя. Поэтому такое большое место занимает у Брауна мнимо сверхъестественное, свидетелями чего становятся герои романа. Даже столь реальная для литературы XVIII в. ситуация, как совращение невинности, приобретает у Брауна характер мнимый, кажущийся. Здесь Браун выступает предшественником романтизма Готорна с его культом сплетения реального и ирреального.
С романтиками Брауна сближает и развитое чувство индивидуального творческого начала. «Я получаю наслаждение от сочинительства, – говорил писатель. – Это умственное обновление более благотворно для изнуренного духа, чем прогулки в полях или созерцание звездного неба»[51].
«Ормонд, или Тайный соглядатай» (1799) наименее «готическая» из всех книг Брауна. Язык и стиль этого романа гораздо спокойнее и строже, чем в «Виланде». В «Ормонде» ощущается воздействие просветительского реалистического романа, писатель апеллирует больше к разуму, чем к чувствам читателя. Даже при виде трупа своей любовницы Елены, покончившей самоубийством после того как он бросил ее, Ормонд с присущим ему эгоизмом спокойно рассуждает: «Я избрал то, что устраивало меня… Ты поступила так, как казалось лучше тебе, и я доволен»[52]. В характере Ормонда писатель отразил себялюбиво-хищническое начало, свойственное человеку нового буржуазного общества.
Главная героиня романа шестнадцатилетняя Констанция Дадли, на невинность которой, подобно новому Ловласу, покушается Ормонд, весьма схожа с ричардсоновскими героинями, отличаясь от них лишь большей интеллектуальностью. Тип идеальной женщины, благородной, великодушной, уверенной в себе, читающей Тацита, Ньютона и Гартли, создан Брауном на основе идей Мэри Уолстонкрафт о равноправии женщин. В то же время «Ормонд», наиболее традиционный из всех романов Брауна, представляет наименьший интерес для характеристики того вклада, который внес в литературу американского предромантизма Браун.
«Артур Мервин, или Мемуары 1793 года» (1799–1800) – одна из первых в мировой литературе историй молодого человека XIX столетия. Браун рисует превращение наивного деревенского парня в рационалиста с филантропическими наклонностями. Писатель использует некоторые приемы готического романа для изображения духовной эволюции героя, стремящегося жить честно и справедливо в этом развращенном и продажном мире. Каждая новая «таинственная сцена», хотя и не содержит ничего сверхъестественного, означает новый шаг в познании Артуром тайн и пороков буржуазного города.
При всей субъективной честности героя происходит постоянное приобщение его к миру зла, с которым он сталкивается на каждом шагу. Сам того не желая, он становится соучастником убийства, помогая скрыть следы преступления. Стремясь вырваться из паутины преступности, Артур возвращается в сельскую местность. Но и здесь он не находит покоя и снова бежит в охваченный эпидемией город.
Образ зачумленного города, где нарушены все естественные человеческие связи, жены брошены мужьями, дети – родителями, становится символической картиной объятого пороками американского города. «Люди закрылись в своих домах, прервав связь со всем остальным человечеством. Боязнь заразиться лишила их рассудка и привела их туда, где опасность была наибольшей. Смерть косила людей прямо на улицах, прохожие разбегались от них, их не впускали в собственные дома, и они умирали отверженными в больницах. Никто не убирал трупов. Постепенно разлагаясь, они наполняли воздух зловонными испарениями»[53].
В одном из крупнейших городов США Артур Мервин чувствует себя так же одиноко, «как в лесу или в глубине пещеры. Вокруг меня были жилища людей, а я был лишен друга или товарища… Я пришел, чтобы помочь другим, но сам нуждался в помощи» (142).
Впечатляющие зарисовки эпидемии в Филадельфии свидетельствуют о реалистическом мастерстве Брауна. Вступая в охваченный паникой город, из которого все в страхе бегут, Артур наблюдает поразившую его сцену: «Я подошел к дому с открытой дверью, перед которой стояла повозка, служившая, как я убедился, катафалком. Кучер сидел наверху. Я остановился, рассматривая его лицо и желая узнать, что он будет делать. В это время двое людей вынесли из дома гроб. Кучер был негром, а эти двое – белыми. Их лица отражали жестокое равнодушие и были лишены страха или сострадания. Один из них, устанавливая гроб на катафалке, сказал:



