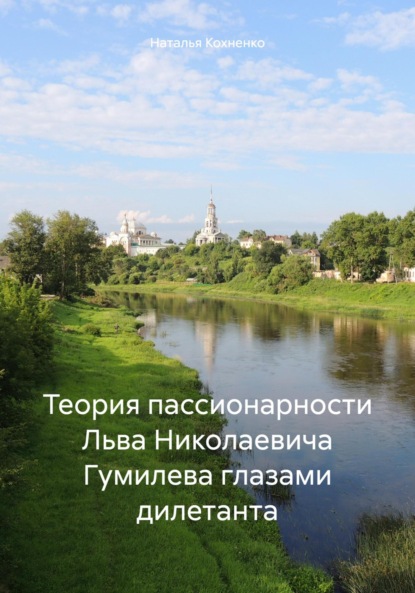
Полная версия:
Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта
Наиболее неблагоприятны контакты на уровне двух и более суперэтносов, часто сопровождающиеся этнической аннигиляцией, демографическим спадом или физическим истреблением слабой стороны [26]. Именно к такому роду контактов относятся этнические химеры, являющиеся питательной почвой для антисистем.
Напрашивается вопрос: почему контакты на различных уровнях этнических групп имеют столь несходные последствия? Для ответа на него уместно обратиться к понятию «картина мира». Этот термин связан с существованием адаптационных механизмов, позволяющих отдельным людям и человеческим обществам быть включенными в окружающую среду наиболее психологически приемлемым образом. Подходы к его пониманию могут несколько различаться, но эта проблема не является для нашей темы центральной, поэтому мы можем опустить их анализ, приняв к рассмотрению концепцию этнической картины мира в изложении доктора культурологии Светланы Владимировны Лурье.
Из ее работ следует, что в основе этноса лежит этническая картина мира, то есть «особым образом структурированное представление о мироздании, характерное для членов того или иного этноса». Она «осознается членами этноса лишь частично и фрагментарно» [63] и служит базой для формирующейся совокупности этнических адаптационно-деятельностных моделей, а ее структуру составляют этнические константы и этнические доминанты.
Этнические константы представляют собой своего рода архетипы[14] – устойчивые бессознательные комплексы, которые изменяться не могут, так как их изменение влечет за собой возникновение нового этноса. «Они сами по себе не имеют содержательного наполнения, а включают в себя лишь формальные характеристики, т. е. представляют собой определенную и постоянную на протяжении всей жизни этноса форму упорядочивания опыта, которая в соответствии со сменой культурно-ценностных доминант народа в течение его истории получает различное наполнение» [63]. Этнические же доминанты – в целом стабильные, но способные к трансформации ценностные установки. Объясняя понятие архетипа, К. Г. Юнг приводил в качестве аналогии систему каналов, где сам архетип представлен руслом, а его содержание – водой, которая по этому руслу протекает.
Этнос состоит из различных внутриэтнических групп, картины мира которых созвучны в части этнических констант, но могут различаться в части этнических доминант. При этом выделяется центральная культурная тема, «которая не может быть приравнена к ценностной ориентации, поскольку, во-первых, для каждого нового поколения членов этноса она как бы предзадана, а во-вторых, в ходе истории народа может представать в различных, вплоть до взаимопротивоположных интерпретациях. Более правильно было бы рассматривать „культурную тему“ как тип устойчивого трансфера, который отражает парадигму „условия деятельности“ в сознании членов этноса. Культурная тема, будучи результатом устойчивого (что вовсе не означает – неразрушимого) трансфера, включается в картины мира различных внутриэтнических групп, а, следовательно, в различные ценностные системы» [63].
Внутриэтническая неоднородность приводит к тому, что членам этноса присущи как общеэтнические поведенческие и коммуникативные модели, так и групповые. В результате возникает мозаичная структура этноса, способствующая поддержанию его стабильности и детерминирующая процесс самоструктурирования. Механизмом осуществления этого процесса является функциональный внутриэтнический конфликт, который «всегда реализуется на базе определенной «культурной темы» [63].
Системообразующее значение функционального внутриэтнического конфликта отмечалось и Гумилевым, причем не только на этническом, но и на суперэтническом уровне: «Суперэтносы имеют одну интересную особенность – внутри системы происходит поляризация. Как монолиты они ведут себя только в фазе пассионарного подъема, а затем, подчиняясь диалектическому закону единства противоположностей, они находят направления для деятельности, осуществляющие устойчивое равновесие в постоянной борьбе между собой. Однако по отношению к другим суперэтносам они выступают как целостность» [21].
В теории Л. Н. Гумилева нет точного аналога этнической картины мира, но при всех различиях в терминологии и расставленных акцентах наблюдается содержательное сходство ряда положений его теории с ее характеристикой. При этом объяснительный потенциал пассионарной теории выше, так как концепция этнической картины мира, принятая в современной науке, имеет преимущественно описательный характер. Конечно, объяснения наблюдаемым феноменам она дает, но природу соответствующих им явлений не раскрывает.
Возьмем для примера информационную теорию этноса Н. Н. Чебоксарова и С. А. Арутюнова, также опирающуюся на понятие картины мира. Согласно этой теории, «в основе возникновения и самоподдержания этносов лежат сгустки коммуникационных, информационных связей» [4]. Информационными связями определяется существование и функционирование и других социальных групп, с той лишь разницей, что объединение людей в эти группы происходит на основе «тематически выборочных инфосвязей» [4]. Для этноса же характерен большой массив «тематически неспециализированной информации» [4], охватывающей все стороны жизнедеятельности человека.
Таким образом, этничность выступает в роли информационного фильтра и удовлетворяет фундаментальную потребность человека в психологической стабильности. Любая социальная группа, выйдя на некоторый критический уровень тематически неспециализированной информации, дает жизнь новому этносу. Так, по мнению авторов теории, часто в этнос трансформируются касты. Могут стать этносом религиозная община, локально-профессиональная общность и т. д.
Доведя эту мысль до логического завершения, можно утверждать, что команда спортсменов, отойдя от решения чисто профессиональных и узко-бытовых проблем и озаботившись вопросами предназначения человека, обустройства мира, управления государством и т. п., может достичь этого самого критического уровня тематически неспециализированной информации, дав начало новому этносу. При этом авторы информационной теории не дают никакого пояснения относительно причин такой трансформации. Возможна лишь констатация данного факта.
Согласно информационной теории, этнос аналогичен виду у животных и состоит из более мелких составляющих: семей, семейных групп, происходящих от общего предка, территориальных общностей и т. д. По мнению С. А. Арутюнова, в этом «и состоит причина нередкой биологизации этноса, как у Широкогорова и Гумилева» [4]. Сам С. А. Арутюнов видит принципиальное отличие в том, что границы видов обеспечивают их раздельное существование за счет своей непроницаемости, а этнические границы в той или иной степени диффузны, делая возможным этническое взаимодействие.
Таким образом, Гумилев рассматривает этнос как биосоциальное явление (с биологической точки зрения скорее соотнося его с популяцией, нежели с видом), а Арутюнов – как исключительно социальное, отмечая при этом, что «этнос изоморфен виду у животных» [4], что свидетельствует о внутренних противоречиях информационной теории.
Вообще подчеркиваемый критиками «биологизм» теории Л. Н. Гумилева, ставящий его в один ряд с такими представителями расово-антропологической школы, как Ж. Гобино и Ж. Ляпуж, сильно преувеличен. Сам Л. Н. Гумилев неоднократно подчеркивал, что этнос имеет комплексный характер и не сводим ни к социологическим, ни к биологическим, ни к географическим явлениям в отдельности. Соответственно, и решить проблему этничности с позиции рассмотрения ее как исключительно социального феномена не представляется возможным.
Если теорию этнического поля экстраполировать на теорию этнической картины мира, то можно предположить, что постоянные волновые характеристики (частота колебаний, например) определяют этнические константы, а переменные (длина, амплитуда) – этнические доминанты. Этнические константы сохраняются на протяжении всей жизни этноса, доминанты же претерпевают изменения (в значительной мере под влиянием затухания первоначальных колебаний вследствие энтропии), имеющие при всем их внешнем разнообразии некоторые общие для всех этнических систем закономерности, которые рассматриваются Гумилевым на примере смены фаз этногенеза.
Вообще комплекс полей различных таксономических групп одного большого целого должен напоминать своего рода матрешку, где каждая из вложенных кукол имеет свои особенности, но соотношение формы и размеров позволяет им беспрепятственно «запрыгнуть» друг в друга, составив единство. Поэтому понятно, почему катастрофические проблемы начинаются на уровне суперэтнических контактов: параметры «материнских наборов» настолько различны, что совмещения достичь невозможно без деформации отдельных частей или даже всего целого.
Для иллюстрации отличий межэтнических взаимодействий в зоне контакта суперэтносов от всех прочих, протекающих на уровнях более низких таксономических единиц, подходит сравнение линейного и нелинейного взаимодействия волн. Линейные волны при взаимодействии не искажают и не препятствуют друг другу. Одна группа волн без изменений проходит через другую. В волновой физике это называется принципом суперпозиции. Линейная трансформация волн происходит только под влиянием внешних факторов и данный принцип не нарушает. Изменение же свойств среды при нелинейном взаимодействии обуславливается самими взаимодействующими волнами.
В силу разнообразных причин возможны ситуации, когда какой-либо этнос отрывается от родного суперэтноса и входит в состав другого, чуждого ему, или длительное и тесное взаимодействие осуществляется на границе суперэтнических ареалов. Этносу вхождение в чужой суперэтнос в любом случае обходится дорого, так как «всегда предполагает отказ от своей этнической доминанты и замену ее на господствующую систему ценностей нового суперэтноса» [24]. Для суперэтнической системы такая ситуация может быть достаточно безболезненна, если новый член находит в системе свою экологическую нишу. При отсутствии такой ниши «прорастание» представителей одного суперэтноса в другой часто приводит к возникновению химеры.
Химера – «сосуществование двух и более чуждых суперэтнических этносов в одной экологической нише» [26]. В таком случае источником существования для этноса, не нашедшего естественного места в системе, становится этнопаразитизм. Частным случаем этнопаразитизма может быть работорговля, в том числе и экономическое рабство, ростовщичество.
Но к наиболее катастрофическим последствиям приводит формирование антисистем, которые могут возникать «в ареалах столкновения этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет свою повседневную обязательную целеустремленность и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят. И вот тут-то возникают философские концепции, отрицающие благость человеческой жизни и смерти, то есть диалектического развития» [21].
Отдельные люди с негативным мироощущением встречаются в любой этнической системе, но для самой системы в норме характерно направление энергии на созидание. Иногда это созидание предполагает разрушение старых конструкций (функциональный конфликт, разрешающийся гражданской войной), но конечной целью является усложнение или восстановление (в зависимости от фазы этногенеза) структуры (мироутверждение во всем его разнообразии). В антисистемах негативное мироощущение (мироотрицание) приводит к направлению энергии на разрушение, выражающееся в уничтожении разнообразия.
Гумилев дает этим диаметрально противоположным картинам мира – мироотрицанию и мироутверждению – следующую характеристику: «В первой позиции – стремление заменить дискретные системы (биоценоз) на жесткие („И снится мне железный вал турбины“), которые, по логике развития, превратят живое вещество в косное, косное при термической реакции разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития – вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, „за все печали, радости и бредни“ придется отплатить „непоправимой гибелью последней“» [21].
Существование антисистемы предполагает наличие идеологической платформы. И такая платформа всегда создается. Это могут быть как учения, основанные на формальной вере в Бога, но несправедливости устройства тварного мира, так и на отрицании божественного. Вот как это формулирует один из учеников Льва Николаевича Владимир Аскольдович Мичурин: «Все антисистемные идеологии и учения объединяются одной центральной установкой: они отрицают реальный мир в его сложности и многообразии во имя тех или иных абстрактных целей. Вывод из этого двояк: либо подобные учения призывают в корне изменить мир, на деле разрушая его, либо требуют от человека вырваться из оков реальности, разрушая самого себя. И то, и другое на деле дает один результат – небытие. Для антисистемы характерны известная скрытность действий и такой прием борьбы, как ложь» [75].
В качестве примеров идеологических обоснований антисистем Гумилев в своих работах рассматривает гностицизм, манихейство, павликианство, учения катаров и исмаилитов, богумильство, отдельные направления буддизма и некоторые другие. Характерной чертой, объединяющей эти учения, является «жизнеотрицание, выражающееся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа человекоубийства, ибо раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия (тантризм), либо как мираж в зеркальном отражении (исмаилизм), либо как творение сатаны (манихейство), то некого жалеть – ведь объекта жалости нет, и незачем жалеть – Бога не признают, значит, не перед кем держать ответа – и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую» [26].
Антисистемы, появляясь в зоне суперэтнических контактов, не связаны с тяготами жизни. Объективно существование людей в этих зонах и в эти периоды может быть как невыносимым, так и вполне благополучным. Размножение в антисистеме идет не естественным путем, а путем инкорпорации в свою среду вновь завербованных членов. Характерными антисистемными признаками являются ложь и стремление к упрощению системы. Антисистемы не могут существовать долго. Они гибнут сами и губят этнические системы, в которых зародились[15].
Надо добавить, что химера и без возникновения антисистемы несет угрозу существованию этнической системы. Причиной этому является не мироотрицание, хотя в химерных образованиях наблюдается повышенная к нему восприимчивость, а отсутствие привязанности к отчему дому в самом широком смысле. Привязанность эта нарушается в силу отсутствия у некоторых этносов отдельного места в этнической системе. Происходит замещение этнической идентичности псевдоэтничностью (ее частным случаем является космополитизм).
Один из примеров химер у Гумилева – Турция в период поздней Османской империи. На ее же примере он показывает и возможности регенерации, которая стала для Турции возможна «за счет использования неизрасходованной пассионарности „отсталых“ окраинных районов» [21].
Этническая регенерация – «это частичное восстановление этнической структуры, наступающее после периода деструкции» [21]; она имеет свои закономерности, связанные с фазами этногенеза. В фазе подъема этнос растет и структурно усложняется без какой-либо регенерации. Начиная с акматической фазы «уже есть что восстанавливать» [21] (и чем дальше, тем больше). В период от акматической фазы до инерционной регенерация связана с выдвижением на ведущие позиции в системе людей, которые еще способны быть не только самими собой, но и тем, кем должно: «Возможно, что в критический момент найдутся какие-то люди, которые опять поставят во главу угла не свой личный интерес, не свою шкуру, а свою страну, как они ощущают ее, свой этнос, свою традицию» [21].
Разница в том, что в акматической фазе, а до известной степени и в фазе надлома, таких людей еще достаточно много в центральных областях этнического ареала, а в инерционной (особенно ближе к ее окончанию) уже приходится «скрести по сусекам» (окраинам). В фазе обскурации регенерация крайне маловероятна и «носит ограниченный характер» [21]. Ее возможности также связаны с наличием пассионарности на периферии, если провинции еще не утратили чувство общности с центром.
Таковы основные дефиниции, которыми оперирует Гумилев.
Глава 3. От подъема до гомеостаза. Коротко о главном
I
Нарушителей правил сначала называют преступниками. Потом – психами. И, наконец, пророками.
Из телесериала «Метод»Лев Николаевич Гумилев определяет этногенез как «весь процесс от момента возникновения до исчезновения этнической системы» [26]. Время от рождения этноса до вхождения его в мемориальную фазу длится около 1 200–1 500 лет. За это время этнос последовательно проходит все динамические фазы: пассионарного подъема, акматическую, надлома, инерционную и фазу обскурации. Последняя, мемориальная – гомеостатическое состояние этноса (того, что от него осталось после всех исторических перипетий), в котором он при благоприятных обстоятельствах застывает на неопределенно долгий срок[16].
Вспышка пассионарности – обязательное условие начала этногенеза. Остальное будет зависеть от уровня технологического развития и степени пассионарности материнских этносов, окружающей обстановки и т. п., так как новые этносы наследуют материальную базу, отчасти знания и навыки старых, уходящих в небытие, а также преодолевают их сопротивление и давление внешней среды в виде агрессивных и недремлющих соседей.
Фаза пассионарного подъема длится приблизительно триста лет и состоит из двух этапов по сто пятьдесят лет каждый – скрытого (инкубационного) и явного. Инкубационный характеризуется появлением некоторого количества людей, которые восстают против сложившихся веками правил, норм и ограничений. Это «восстание» какое-то время остается за кадром истории, так как, на взгляд современников, ничего особенного не происходит, жизнь течет как обычно. Появляются какие-то «чудики». Так они время от времени появляются всегда и везде. Окружающие подвергают их обструкции, изгоняют из своей среды, иногда убивают.
Историки тоже не могут отследить этот момент с хроникальной точностью. А спустя некоторое время оказывается, что в недрах накапливающейся пассионарности рождается «идеал», под которым Л. Н. Гумилев подразумевает «далекий прогноз и ничего более» [24]. Более или менее этот процесс становится очевидным (все еще не для современников, но уже для историков), когда у части пассионариев созревает образ будущего и они, стремясь воплотить его в жизнь, объединяются с единомышленниками в некую группу, которая в теории этногенеза носит название «консорция». Это еще не этнос, а люди, входящие в консорцию, могут иметь разное этническое и социальное происхождение, но судьба с этого момента у них общая.
Примерами таких консорций являются люди длинной воли, объединившиеся под началом Чингисхана, ранние христиане, Мухаммед со своими мухаджирами, рыцари Круглого стола в Англии, французские рыцари Карла Великого. Их всех роднит то, что у них есть образ будущего, к которому они стремятся, и этот образ кардинально не совпадает с картиной мира, существующей в их этнической среде. Среда оказывает им сопротивление, но со временем у них появляется все больше и больше единомышленников. Идет ломка старых стереотипов поведения, нарождается новый этнос.
Процесс рождения этноса не всегда идет гладко, иногда буксует, дает временные откаты: например, распри и развал империи после смерти Карла Великого. Это зависит от многих обстоятельств, в том числе от состояния тех этнических систем, в которых начинает «прорастать» новый этнос. Нахождение их на излете этногенетического цикла (в фазе обскурации или гомеостазе) облегчает задачу. Если же эти этнические субстраты находятся на подъеме и обладают сильной социальной системой, то будущему приходится преодолевать колоссальное сопротивление. Сильные и агрессивные соседи также могут оказать серьезное воздействие. При определенном сочетании неблагоприятных условий процесс этногенеза может вообще прерваться. Если этого не происходит, фаза накопления пассионарности неизбежно переходит в свой явный этап.
В этот период произошедшие изменения становятся достаточно выраженными, чтобы их мог заметить сторонний наблюдатель. И вот на глазах у изумленных соседей появляется молодой агрессивный этнос, быстро размножающийся и переходящий к активной экспансии. Количество его субэтносов возрастает, что влечет за собой увеличение числа связей в системе, происходит ее усложнение.
Неуклонно увеличивается и число пассионариев. Тон в обществе задают именно они. Все должны работать на общее дело. Чувство долга является определяющим. Социальная система в этот период оформляется по принципу «Будь тем, кем ты должен быть!» и функционирует достаточно жестко. «Если человек не соответствует своему назначению, то короля убивают, герцога лишают надела, рыцаря выгоняют с позором и с плетьми, раз он оказался трусом, а не героем» [24]. Ни о какой демократии в сегодняшнем понимании в этот период помышлять невозможно, но социальные лифты работают хорошо.
Показательно в этом отношении выстраивание своей империи Чингисханом. В империи Чингисхана не было ни одного выборного органа. Да и сам он был провозглашен императором вождями племен, а не избран народом. Чингисхан осуществлял свою власть в империи через посредство иерархии сотрудников. Он сам назначал людей на высшие воинские и административные должности. Эренжен Хара-Даван отмечал, что при этих назначениях он «никогда не руководствовался только происхождением, а принимая в серьезное внимание техническую годность данного лица и степень его соответствия известным нравственным требованиям, признававшимся им обязательным для всех своих подданных, начиная от вельможи и кончая простым воином» [124]. К таким требованиям относились верность, преданность и стойкость. Одними из самых тяжелых преступлений считались неоказание помощи боевому товарищу и предательство доверившегося.
«При подъеме вырастает роль гармоничных людей, исправно несущих свои обязанности» [26], но определяющей силой они не являются, уступив эту роль пассионариям. Из трех рассмотренных выше типов нет места только одному – субпассионариям. Они потихоньку вымываются из этноса, так как не соответствуют духу времени. Им сложнее выжить и оставить потомство. Как пишет Гумилев, их просто не замечают. Но количество их еще достаточно, чтобы проявиться в акматической фазе.
II
Он приказал подать себе свежую лошадь, сильную и резвую, выбрал новое, крепкое копье, опасаясь, что древко старого не так уже надежно после предыдущих стычек, и переменил щит, поврежденный в прежних схватках. На первом щите у него была обычная эмблема храмовников – двое рыцарей, едущих на одной лошади, что служило символом смирения и бедности. В действительности вместо этих качеств, считавшихся первоначально необходимыми для храмовников, рыцари Храма в то время отличались надменностью и корыстолюбием, что и послужило поводом к уничтожению их ордена. На новом щите де Буагильбера изображен был летящий ворон, держащий в когтях череп, а под ним надпись: «Берегись ворона».
Вальтер Скотт. «Айвенго»Между тем пассионарность молодого этноса растет. Пик этого роста приходится на акматическую фазу. Длительность ее, как и предыдущей, составляет приблизительно триста лет. Уровень пассионарности очень высокий, но пассионарии перестают работать на общее дело. Подъем индивидуализма повсеместен. Право долга уступает праву силы. На первое место выходят личные цели и интересы, которые определенным образом соотносятся с интересами других людей, но не всех представителей своего этноса, а лишь наиболее близких: членов группы, клана, рода и т. п. Этнос дробится, при этом существует система взаимообязанности и взаимовыручки, круговой коллективной ответственности.
Л. Н. Гумилев характеризует акматическую фазу этногенеза следующим образом: «После определенного момента, некой красной черты, пассионарии ломают первоначальный императив поведения. Они перестают работать на общее дело, начинают бороться каждый сам за себя» [21]. Если в фазе подъема актуален императив «Будь тем, кем ты должен быть», т. е. существует однозначный приоритет системы над индивидом, то в акматической фазе вступает в силу императив «Будь самим собой»: «Художник начинает ставить свою подпись под картинами: „Это я сделал, а не кто-то“. Да, конечно, все это идет на общую пользу, украшает город замечательной скульптурой, но „уважайте и меня!“ Проповедник не только пересказывает слова Библии или Аристотеля без сносок, перевирая как попало, не утверждая, что это чужие святые слова, нет, он говорит: „А я по этому поводу думаю так-то“, и сразу становится известно его имя» [21].

