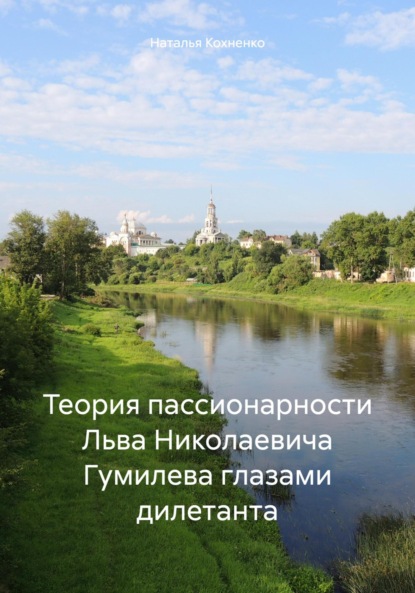
Полная версия:
Теория пассионарности Льва Николаевича Гумилева глазами дилетанта
Инерционная фаза или, как ее называл Лев Николаевич, «золотая осень» этноса – не худший вариант развития событий. Но переход к ней – тяжелое испытание. Как и любой другой этап этногенеза, фаза надлома не является однородной. Периоды накала страстей сменяются периодами затишья, но именно «в надломе бывает короткий период депрессии – разгула субпассионариев. Надо суметь его пережить, чтобы выйти в инерционную фазу» [21].
Из трех упомянутых нами суперэтносов до «золотой осени» дожили только два – Западноевропейский и Восточнохристианский. Арабы, конечно, тоже с лица земли не исчезли, но суперэтническую целостность утратили.
IV
…Очевидно, в этом есть какое-то непонятное свойство природы: вино переходит в уксус, Мюнхаузен – в Феофила.
Из к/ф «Тот самый Мюнхаузен»Продолжительность инерционной фазы, как и длительность фазы обскурации, подвержена значительным колебаниям. «Это зависит как от интенсивности внутренних процессов разложения этноса, так и от исторической судьбы, определяемой степенью развития материального базиса, накопленного за предшествовавший период, физико-географическими условиями ареала и состоянием смежных этносов» [26]. Если исходить из общей продолжительности процесса этногенеза от пассионарного толчка до вхождения этноса в состояние гомеостаза (1 200–1 500 лет), то на совместную долю инерции и обскурации приходится порядка 4–7 веков.
По образному выражению Льва Николаевича, переход к инерционной фазе осуществляется под лозунгом «Дайте же жить, гады!» Уставший от бурной молодости этнос в лице сохранившейся своей здоровой части начинает наводить в доме порядок. Можно долго рассказывать о подробностях этого переустройства, но суть его сводится к тому, что можно назвать стандартизацией и унификацией.
За предыдущие насыщенные событиями времена члены этноса «уже научились понимать, что индивидуальности, желающие проявиться во всей оригинальности, представляют для соседей наибольшую опасность» [26]. На деле, конечно, никакого осознанного и одинакового понимания в такой массе людей возникнуть не может. Просто так или иначе основная часть пассионариев уничтожена, а оказавшийся в большинстве обыватель терпеть не может того, что лично для него чуждо. Индивидуальность же, особенно в своих крайних проявлениях, непонятна, а посему опасна и вообще мешает жить. Продолжают работать универсальные механизмы естественного отбора, но сами критерии отбора меняются.
Стандартизация начинается со смены общественного императива на «Будь таким, как я!» Населению предлагается некий идеал, к которому следует стремиться. В роли такого идеала может выступать реальная личность вроде императора Октавиана Августа, как это случилось в Римской империи, или умозрительный образ вроде идеала джентльмена в Англии, святого – в Византии, богатыря – в Центральной Азии [26].
За формированием образца (идеала) следует навязывание этого стандарта, то есть приведение представителей этноса к некоторому единообразию. Диапазон принуждающих мер весьма широк: от общественного неодобрения до прямого насилия над теми, кто не желает (а иногда, в силу яркости индивидуальных черт, не может) вписаться в предложенные рамки. Физическое насилие как отголосок фазы надлома более свойственно начальной стадии инерционной фазы. Постепенно эффективности общественного мнения в большинстве случаев становится достаточно.
В сравнении с предыдущими периодами этногенеза в этом отношении принципиально ничего не меняется. В любом обществе существуют нормы, которые поддерживаются соответствующими санкциями. Разница заключается в том, что вариативность норм снижается, и применение санкций приводит к большему «усреднению» людей, чем в предшествующие инерции времена. Поэтому «вымывание» из этноса пассионарного элемента продолжается. Только скорость этого процесса ниже, чем в фазе надлома. Одновременно возрастает роль людей гармоничных.
Прекрасной иллюстрацией к преобразованиям инерционной фазы в области формирования человека является анализ трансформации образа положительного героя, приведенный в уже упомянутой монографии «Культура Византии. Вторая половина VII–XII в.». Он заслуживает хотя и выборочного, но довольно объемного цитирования: «…становлению византийской литературы присущ постепенный отказ от изображения сложности и противоречивости природы человека в пользу парадигматического идеала, определяемого набором отвлеченных от конкретности достоинств и недостатков. Собственно эволюция литературного героя заключается при таком подходе не в создании нового литературного образа неповторимой индивидуальности, но в изменяемости самого каталога добродетелей и пороков, с одной стороны, и конкретных носителей этих качеств – с другой.
<…>
Фигура собственно византийского святого как идеального героя не оставалась неизменной константой на протяжении веков. <…> VIII – X столетия выдвинули в герои житий ряд крупных церковных иерархов (константинопольских патриархов Германа, Тарасия, Никифора, Мефодия, Игнатия, Евфимия), известных исповедников веры (Феофана, Феодора Студита). Это уже не агиографический герой в духе св. Антония, борющегося с искушением вдали от мирской суеты. Напротив, святые VIII – X вв. совсем нередко в гуще столичных событий и противостоят вполне конкретным историческим персонажам с иными, чуждыми святым, взглядами и убеждениями.
<…>
Эволюция литературного героя проходила в VIII – X вв. не только по линии изменения его социального облика и общественной позиции. Изменялся набор черт, выдвигавшихся в качестве идеальных. Показательна в этом смысле трансформация образа идеального императора. Анализ „княжеских зерцал“ („княжеских“, конечно же, условно, поскольку речь в них идет об идеале императора) показывает, что на протяжении VII – первой половины IX в. они утрачивают вполне традиционные для идеализированного облика императора черты: воинские доблести, образованность; преодолевается представление о двойственной природе императора (божий избранник и одновременно человек, равный перед лицом бога своим подданным); исчезают портретные характеристики; определяющим в парадигме монарха становится его благочестие.
<…>
С конца IX в. (в „Учительных главах“ Василия I) и на протяжении X в. происходит дальнейшее преображение литературного героя. В каталог императорских добродетелей возвращается образованность; хотя и осторожно, но затрагивается тема знатности по происхождению; выдвигается на передний план функция императора – блюстителя закона» [118].
Существенна динамика в теме войны и мира: «…поэтический апофеоз войны не претил византийскому автору VII в.», но постепенно позиция меняется. «Ее теоретическим выражением на исходе IX столетия были „Учительные главы“ Василия I, наставлявшего будущего императора Льва VI в том, как следует крепить мир в духе евангельской заповеди „блаженны миротворцы“, и посвятившего этому сюжету отдельную главу, а о полководческих обязанностях монарха не упоминая совсем» [118].
Впрочем, призыв к «травоядности» часто звучит в начале инерционной фазы, но окончательно утверждается лишь ближе к ее концу, когда пассионарное напряжение падает ниже необходимого для нормального функционирования оптимума. А в промежутке этническая система живет вполне насыщенной жизнью, частенько воюет. Византия в этом отношении не была исключением.
Период правления Македонской династии (конец IX – начало XI веков) считается золотым временем Византийской империи: развиваются торговые связи с западными и восточными соседями, растут города, их население увеличивается, расширяются византийские владения как на Западе (завоевание Болгарского царства), так и на Востоке (победы над арабами, приращение территории за счет армянских земель). При императоре Василии II Византия становится сильнейшем государством Европы. Это и время успехов Византийской империи в идеологической сфере. Словом, Византийская империя достигла процветания.
При беглом взгляде на инерционную фазу она представляется прекрасным временем. «Трудолюбивые ремесленники, бережливые хозяева, исполнительные чиновники, храбрые „мушкетеры“, имея твердую власть, составляют устойчивую систему, осуществляющую такие дела, какие в эпоху „расцвета“ казались мечтами. В инерционной фазе не мечтают, а приводят в исполнение планы, продуманные и взвешенные. Поэтому эта фаза кажется прогрессивной и вечной» [24]. Однако, с «вечностью» у Византии, и не только у нее, почему-то не сложилось. Интересно, почему?
Ответ на этот вопрос мы получим, если рассмотрим динамику развития этноса в инерционной фазе. Идеальные образы святого, богатыря и джентльмена достойны подражания, однако, чтобы им следовать, этнической системе необходима достаточно весомая доля пассионарности, а пассионарность медленно, но неуклонно снижается. В итоге богатырь получает прописку в сказках, джентльмен мельчает, а святой превращается едва ли не в свою противоположность.
Им на смену приходит идеал «золотой посредственности». Воцаряется «порядок, который обеспечивает возможность спокойно жить и существовать в меру своих обязанностей, никогда не претендуя на достижение решающего успеха» [26]. Некоторое время пассионарии еще находят себе приют в науке и искусстве – «сферах, не связанных с риском» [26]. Но постепенно происходит снижение эстетического уровня произведений культуры. Количество их при этом может даже увеличиваться, создавая иллюзию интенсивности творческого процесса. Ученые перестают мечтать о великих открытиях и сосредоточиваются на практических изобретениях.
«Конечно, на этом фоне появлялись гении: мыслители, ученые, поэты, но их было не больше, чем в жесткую акматическую фазу. Зато они (гении акматической фазы – Н. К.) имели хороших учеников, а их концепции – резонанс» [26]. Выдающиеся достижения, не имеющие прикладного характера, в этнической системе ближе к концу инерции оценить по достоинству, как правило, некому. Как говорится, нет пророка в своем отечестве.
Исподволь на фоне торжества посредственности происходит потеря не только индивидуальности, но и нравственных ориентиров. Вера уступает место безверию. Морально-нравственное разложение охватывает все более широкие слои населения. Тихие и трудолюбивые люди перестают соответствовать духу времени; их постепенно вытесняют субпассионарии типа «обывателей» и «созерцателей». Причем субпассионарии чувствуют себя все лучше и комфортнее, так как «в „мягкое“ время цивилизации при общем материальном изобилии для всякого есть лишний кусок хлеба и женщина» [21]. Численность их неуклонно растет. Наступает фаза обскурации.
Переход из фазы накопления пассионарности в акматическую или из акматической в надлом еще можно привязать к каким-то событиям. Фазовый переход от надлома к инерции вообще является одним из самых тяжелых кризисов в жизни этноса и потому, как правило, хорошо заметен. Водораздел между инерцией и обскурацией, как правило, четко не прослеживается. Темные времена подкрадываются незаметно.
По этой схеме развивались события и в Византийской империи. Мы упомянули последнего василевса Македонской династии Василия II. Он пытался ограничить влияние византийской аристократии, проводя жесткие меры, препятствующие обогащению крупных землевладельцев. Дело доходило до конфискации земель. Но уже к концу правления Василия II ряд влиятельных византийских кланов заметно усиливается. На смену Македонской династии приходят Комнины. При Комнинах высшая элита представляет собой группу аристократических фамилий, связанных между собою родственными узами. С них-то и начинается загнивание византийского общества.
Поначалу кажется, что ничего страшного не происходит. Наоборот, даже Комниновское возрождение имеет место. В действительности подспудно идут процессы, в свете которых трагический конец Византийской империи представляется предопределенным и вполне логичным. Наглядную и яркую их характеристику можно обнаружить в статье доцента кафедры культурологии и искусствознания Кемеровского государственного университета культуры и искусств Дмитрия Анатольевича Филина «Византийское монашество и кризис империи рубежа XII – XIII вв.»
Ссылаясь на Никиту Хониата[18], Д. А. Филин пишет: «…тенденции, чутко уловленные Хониатом, были уже весьма заметны во 2-й половине XI столетия. Определены они «индивидуализацией» сознания… <…> …развитием таких черт характера, как исключительное себялюбие, эгоцентризм, замкнутость на своих собственных проблемах, руководство в деятельности почти исключительно гедонистическими мотивами, и как долговременное историческое следствие в конечном итоге – предпочтение частных, своекорыстных интересов общим. В начале же „индивидуализация“ сознания весьма способствует развитию творчества, появлению новых одаренных индивидов.
<…> Авторы XII столетия гордятся своим талантом, образованностью, проявляют повышенный интерес к собственной индивидуальности [19] : обобщенности предпочитая наблюдательность, интерес к деталям, мелочам быта. В дальнейшем, в XII в., индивидуализация ведет к профанации творчества…
<…> Советы Кекавмена (2-я половина XI в.) больше всего касаются взаимоотношений с начальством и подчиненными, безопасности собственного положения, репутации в глазах властей. Такие понятия, как дело, долг, честь, не присутствуют на страницах его книги (чем не наставления Д. Карнеги? – Н. К.).
<…> Процесс индивидуализации сознания ведет к расшатыванию традиционных церковных устоев в сфере семьи и положения женщины. <…> Константинополь превратился в новый изнеженный Сибарис. Язвами ромейского общества стали всеохватывающий эгоизм, себялюбие, забота исключительно о самом себе. Люди пренебрегают близкими, родными, Родиной: ими движет лишь жажда самосохранения и корыстная трусость» [122].
После такого описания византийских реалий XII – XIII веков возникает стойкое чувство, что на современную Европу можно времени и не тратить: достаточно в приведенном отрывке поменять даты, имена, названия. То, что так замечательно начиналось в эпоху Просвещения с призывов к гуманизму[20], на наших глазах завершается эгоизмом, ханжеством и лицемерием, повсеместной подменой понятий, насаждением противоестественных форм поведения под видом заботы об индивидуальности и т. п., а главное, полным параличом воли и безответственностью. В дополнение картины и восточные «варвары» уже подоспели.
Таким образом, «отличительной чертой инерции является сокращение активного пассионарного элемента и полное довольство эмоционально пассивного и трудолюбивого обывателя… здесь его лелеют, ибо он никуда не лезет, ничего не добивается и готов чтить господ, лишь бы они его оставили в покое» [21]. Поскольку такая пассивность не способствует организации отпора кому бы то ни было (как чужим, так и своим), гармоничные люди постепенно замещаются субпассионариями. Пассионарность воспринимается как вызов самодовольному большинству и всячески подавляется.
К концу инерционной фазы разрыв между провозглашаемыми «вегетарианскими» идеологемами и абсолютно «людоедской» психологией элит, а также падение нравов, затрагивающее широкие слои населения, достигает критического уровня. Этническая система ввергается в фазу обскурации. В момент фазового перехода или чуть позже, когда начинается повсеместное «броуновское движение», и каждый тянет одеяло на себя, могущественная и процветающая цивилизация, «совершенно неожиданно»[21] обрушивается под напором очередных «варваров».
Впрочем, часто это происходит значительно раньше. Лев Николаевич Гумилев считал, что до обскурации этносы доживают редко. Но не всегда это связано с очевидной гибелью этнической системы. Иногда происходит то, что внешне выглядит как ее обновление, а на самом деле является подъемом нового этноса в результате очередного пассионарного толчка.
V
– Ну, отгадайте мне одну загадку, – возразил Клипсби. – На чьей стороне сэр Даниэль?
– Не знаю, – проговорил Дик, слегка краснея, потому что его опекун постоянно в это смутное время переходил с одной стороны на другую, и каждая перемена сопровождалась увеличением его состояния.
– Ага! – возразил Клипсби. – Этого не знаете ни вы, ни один человек на свете. Потому что он из тех, что ложится спать приверженцем Ланкастерского дома, а встает защитником Йорка.
Роберт Льюис Стивенсон. «Черная стрела»Расцвет признаков обскурации в Византийской империи отмечается в конце XIII столетия, но тревожные звоночки прозвучали еще в XI в., когда византийская знать начала активную борьбу за престол. Самозваные императоры сменяли друг друга с феноменальной скоростью. В условиях подъема ближайших соседей – турок-сельджуков – это было смертельно опасно. К счастью, не всем самозванцам можно отказать в решительности и личном мужестве. Алексей Комнин, судя по всему, этими качествами обладал. Империя выжила, но в XII веке история повторилась.
Ситуация усугублялась тем, что претенденты на византийский престол стали торговать отечеством, обратившись за помощью к европейской родне по вере, а иногда и по крови. Крестоносцы, мужественные борцы за веру, быстро превратились из помощников в захватчиков. В середине XIII века их все-таки удалось «выкурить» из Константинополя. В этот раз империю восстановили Палеологи, но былое величие ее было утрачено. Византия сильно уменьшилась в размерах, перестала быть великой средиземноморской державой, а в довершение этого предоставила такие преференции европейским купцам, что потеряла и экономическую самостоятельность. Мероприятия по ограничению на внутреннем рынке венецианцев, осуществленные при Михаиле Палеологе, и одновременная передача их привилегий генуэзцам выглядят как очередной акт продажи византийской элитой собственного государства.
Какое-то время Византия еще существовала, постепенно теряя территории и угасая. 29 мая 1453 года Константинополь пал под ударами турок. К середине XV века «падать» в бывшей империи, кроме Константинополя, было уже нечему.
Фаза обскурации является заключительной в чреде активных периодов жизни этноса. Ее наступление подготавливается изменением общего уровня пассионарности этноса. Пассионариев остаются единицы. Они очень быстро навлекают на себя недовольство окружающих и, пытаясь выжить, перемещаются на окраины этнического ареала, где дышится свободнее, или уезжают в чужеземные края в поисках возможностей для применения своих талантов и энергии. Гармоничные люди, как обычно, пытаются жить спокойно, трудиться, воспитывать детей, не всегда это удается. Доля субпассионарного элемента к этому времени увеличивается настолько, что он становится основной движущей силой общества.
Общественный императив меняется: «Будь таким, как я!» трансформируется в «Будь таким, как мы!» «Всякий рост становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость. В искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, в армии солдаты держат в покорности офицеров и полководцев, угрожая им мятежами. Все продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться» [21]. Картинка получается неприглядная, но динамика в ней чувствуется.
Поскольку принципиальная разница между пассионариями и субпассионариями заключается не в способности действовать, а в наличии или отсутствии устойчивой цели, обскурация если и напоминает болото, то болото деятельное, временами просто-таки бурлящее. Фаза обскурации – акматическая фаза наоборот. И последствия происходящего при некотором внешнем сходстве у этих фаз разные. Пассионарии, движимые страстью, имеют цель и волю для ее достижения. Даже в период, когда пассионариев много, их цели не совпадают, а зачастую входят друг с другом в прямой конфликт, их устойчивость, как правило, дает некий результирующий вектор движения. Цели субпассионариев сиюминутны, это цели-желания. Поэтому возникает то, что Гумилев называл «броуновским движением» (этот термин он часто употребляет и по отношению к акматической фазе), или, проще говоря, хаос.
Природные богатства бездумно уничтожаются ради сиюминутной выгоды, достигнутое потом и кровью поколений предков проедается и пропивается, новое не создается, хозяйство приходит в упадок, депопуляция прогрессирует. Разрушаются основы для поддержания этнической доминанты, этническая система разваливается на части даже без приложения каких-либо внешних сил – происходит ее упрощение. В итоге осколки этнической системы «консервируются» в состоянии гомеостаза. Поскольку гомеостаз применительно к этногенезу предполагает отсутствие всякого развития, Гумилев назвал его начало мемориальной фазой: физически этнос продолжает существовать, но как динамическая система он уже мертв.
VI
Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы.
Братья Стругацкие. «За миллиард лет до конца света»Постепенно люди мемориальной фазы забывают многие навыки и умения, поддерживая и передавая будущим поколениям только те, которые необходимы для обеспечения существования в сложившихся условиях. Изменяется восприятие времени: оно теряет поступательный характер и становится цикличным. Прошлое мифологизируется. Мифы и героический эпос бережно передаются потомкам, но ни у кого из них не возникает желания повторить воспеваемые подвиги прошлого. Герои практически становятся равными богам. Пассионариям, как и субпассионариям, в таком обществе места нет – естественный отбор продолжается, но в этой фазе он закрепляет черты гармоничного типа.
Яркие примеры такого «застывания» хорошо известны в лице этносов-изолятов, на примере которых этнологи и антропологи очень любят изучать детство человечества, принимая упрощенность старости за примитивность юности.
Гумилев вспоминает разговор, состоявшийся у него с антропологом индусом Чоудхури. Речь шла о представителях негроидного племени онгхи, живущих на острове Малый Андаман. Жизнь племени размеренна и очень проста. Прекрасный климат, полная изоляция от посторонних: онгхи живут в специально созданном заповеднике.
Чоудхури сказал Льву Николаевичу, что «онгхи живут так, как жило человечество 20 тысяч лет назад. Для них ничего не изменилось. Питаются они тем, что дает природа, а тепло им дают солнце и костер» [26]. Это весьма распространенное суждение из уст человека, с которым Лев Николаевич, надо полагать, поделился своими теоретическими соображениями, привело Гумилева к мысли о некритичном восприятии эволюционной теории этногенеза. И логику его возражений оспорить трудно: «А как, по мнению индийского ученого, попали на Андаманские острова предки онгхи? Ведь они должны были знать не только каботажное мореплавание; да и вряд ли они плыли по Индийскому, очень бурному океану наобум. Лук и стрелы тоже надо было изобрести или позаимствовать у соседей. Брачные обычаи, запрещающие даже в случае раннего вдовства повторный брак и ограничивающие браки с близкими родственниками, – отнюдь не примитив. Язык онгхи индийские этнографы еще не выучили. Но когда это случится, то наверняка окажется, что у онгхи есть воспоминания о предках, мифы и сказки, еще не совсем забытые» [26].
Не всем этносам удается затеряться где-нибудь подальше от соседей, еще не утративших пассионарность. По большей части этносы мемориальной фазы включаются в другие этнические системы, где часто со временем ассимилируются их более активными представителями. Иногда практически полностью уничтожаются более активными пришельцами. Некоторым удается создать с соседями отношения симбиоза. В качестве такого примера Гумилев приводит взаимовыгодное сосуществование пигмеев Центральной Африки с банту[22]. Тогда «этносы, потерявшие былую пассионарность, могут существовать за счет пассионарности соседнего этноса, передаваемой даже не естественным путем, а через системные связи» [26].
В отсутствии притока хотя бы минимальной пассионарности, даже при самых благоприятных условиях, жизнь этноса конечна. Тихое существование в состоянии гомеостаза может тянуться так долго, что кажется ничем не ограниченным, но постепенно накапливается общее снижение жизненного тонуса, возникают проблемы с зачатием детей у молодых и здоровых женщин. Осколок былого этноса медленно угасает.
К счастью, процесс этногенеза на планете Земля никогда не прекращается. Цивилизации уходят в небытие, сокрушаемые буйными соседями. Их могильщики со временем остепеняются и строят на их месте новые, повторяя в общих чертах ошибки и судьбу своих предшественников, но всякий раз ощущая себя первопроходцами. Так было всегда. И будет длиться до тех пор, пока живо человечество. Одна из книг Льва Николаевича Гумилева так и называется – «Конец и вновь начало».

